Коротышки, прозаическое |

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
Коротышки, прозаическое |
 31.10.2007, 15:54 31.10.2007, 15:54
Сообщение
#1
|
|
|
Бакалавр    Группа: Member Сообщений: 206 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 4770 Поблагодарили: 320 раз(а) |
http://lib.tiera.ru/RUFANT/PUHOW/22-28.txt
Михаил Пухов. Коммуникабельный гуманоид Клева не было в принципе. Солнце отражалось в озере уже часа полтора, а я сидел без улова. Впрочем, в рыбалке важен процесс. Чтобы, что-то поймать, надо забираться куда-нибудь в глухомань, где неподвижно стоят под корягами метровые щуки, а на дне шевелят усами сомы. Но до таких мест можно доехать лишь в отпуск. Внезапно какая-то тень заслонила восходящее солнце. Прищурившись, я посмотрел в ту сторону и увидал дисковидный летательный аппарат, с какими встречались, по-моему, многие. Диск быстро приближался. По его гладкой поверхности струилась тонкая пленка тумана. Что ж, это справедливо. Если обитатели какого-то провинциального городишки, чуть ли не ежедневно встречая пришельцев, каждый раз приходят к полному пониманию, то чем мы хуже? Я лично всегда верил в летающие тарелки и прочие НЛО. Диск висел уже прямо над моей головой. Струистый туман растекался по его обтекаемому днищу, как пар вдоль бортов готовой к старту ракеты. Потом это струение прекратилось, и диск мягко рухнул в кусты в каких-нибудь тридцати метрах от меня. Разумеется, я уже стоял на ногах, забыв про удочку. Из-за диска появился гуманоид, действительно очень похожий на человека, и направился ко мне. - Здравствуйте, - произнес он на вполне правильном русском языке и оглянулся на свой летательный аппарат. В борту диска имелась большая вмятина, которую я только теперь заметил. - Вы случайно не помните, где я покалечил свое магадо? И почему я один? Естественно, от неожиданности я слегка опешил. Но лицом в грязь падать не стал. Я ответил как можно спокойнее: - Не знаю. - Следовательно, раньше мы не встречались, - заключил гуманоид. - Так я и предполагал. Значит, вы не сможете мне сообщить, давно ли я нахожусь на этой планете. Отвечать на это было нечего. Да и вопрос-то отсутствовал. Я молчал, собираясь с мыслями. Гуманоид стоял рядом со мной и смотрел на неподвижный поплавок. - Совсем не клюет? - Откуда вы знаете? - удивился я. - Сейчас вы скажете мне об этом, - спокойно объяснил гуманоид. Логики в этом высказывании я не нашел. Однако по существу он был, разумеется, прав. - Да, - сказал я. - Совсем не клюет. Обычное дело. И взялся за удочку, вытащить ее из воды. Чтобы не отвлекала. - Погодите, - сказал гуманоид. - Сейчас вы поймаете рыбу. Я подсек. Удилище согнулось. Такого не было у меня все лето. - Рыба!.. - Вот теперь можно сматывать, - сказал гуманоид. - Больше никого вы сегодня не подцепите. Я повиновался. Я верил гуманоиду. Он не помнил, сколько времени провел на Земле, но будущее предсказывал профессионально. - Вероятно, вы живете у нас довольно долго, - предположил я. - Почему вы так думаете? - Вы хорошо говорите по-русски, а наш язык сложен для изучения. Логично? Гуманоид усмехнулся. Мимика у него тоже была совсем человеческая. - Нет. Если я неплохо говорю по-вашему, то не потому, что когда-то учил язык. В этом случае я бы его, конечно, забыл. - Не понимаю. - Для вас это звучит необычно, - согласился гуманоид. - Но любое существо живет не только в пространстве, но и во времени. Для того чтобы определять свое место в мире, мы располагаем специальными органами чувств. Органы пространственной ориентации - это глаза, уши и так далее. Чувств ориентации во времени два - это память и интуиция, то есть способность предвидеть будущее. Если бы их у нас не было, мы были бы подобны мертвой материи, для которой понятие времени практически лишено смысла. - Допустим, - сказал я. - Это интересная точка зрения, но... - Вы это поймете, - предсказал гуманоид. - Вероятно, вы замечали, что ваши временные чувства несимметричны. У вас, людей, хорошая память, но почти отсутствует способность к предвидению. Вы еще не знаете, что это универсальный закон природы: из двух временных чувств одно обязательно доминирует. Этот закон справедлив и для моих соплеменников. Но у нас это не так, как у людей. Наоборот. Наша память слаба, и мы не помним своего прошлого. Оно столь же туманно, как для вас будущее. Зато у нас развито чувство предвидения, поэтому будущее мы знаем. - Но это же страшно неудобно! Как вы ухитряетесь жить без памяти? - Зато мы помним будущее. Уверяю вас, это ничуть не менее удобно. Например, произнося длинную фразу, вы не всегда знаете, какими словами кончите, но помните ее начало и вопрос, на который отвечаете. Я же помню конец фразы и следующую реплику собеседника. Например, сейчас вы собираетесь вернуться к языковым проблемам. - Угадали, - согласился я. - Какое отношение эти сведения имеют к знанию языка? - Я пробуду у вас много дней, - объяснил гуманоид. - Несомненно, за это время я успею изучить язык, а сейчас ясно вижу весь процесс обучения и поэтому знаю язык заранее. Разумеется, потом я его забуду. Я представил себе, как он изучает язык. В свете его высказываний это выглядело так. Он разговаривает со мной, с другими, а говорит все хуже и хуже. Чем больше говорит, тем меньше знает язык. Потом садится за словари и учебники и забывает все окончательно. И покидает Землю. - Откуда вы прилетели? - полюбопытствовал я. - Не помню. - Даже так? Не помните, где и когда родились? - Естественно, - сказал гуманоид. - Наше прошлое подобно вашему будущему. Разве вы знаете, когда умрете? - А вы это знаете? - О вас? - Гуманоид пожал плечами. - Естественно, нет. Вы ведь тоже не знаете дату моего рождения. Возразить на это было нечего. Как спорить с законом природы? Все симметрично во времени. Ни он, ни я не знаем дня его рождения. И мы оба ничего не можем сказать о моей смерти. - Вы помните свое индивидуальное прошлое, - продолжал он. - Я знаю свое индивидуальное будущее. Но не надейтесь услышать от меня что-нибудь существенное для вас. Будущее, которое я знаю, вам неинтересно. А мне мало пользы от вашего прошлого, даже если вы о нем подробно расскажете. Он был прав. Допустим, я потребую от него комбинацию цифр, которая выиграет в "Спортлото". Но он не знает выигрышной комбинации. Ему в его будущем и в голову не придет заглянуть в таблицу. А если я попрошу его сделать это, он тут же забудет о моей просьбе. В конце концов, я ведь тоже не помню, какие числа выиграли в прошлом тираже. - Минувшее укутано мраком, - сказал гуманоид. - Если бы вы знали, как это печально. Кто расскажет мне о моем прошлом? Почему я один? И откуда я прибыл? - Откуда-то оттуда. - Я показал вверх. - Спасибо за информацию, - поблагодарил он. - В обмен я сообщу вам кое-что из вашего будущего. Когда я улечу - а это вот-вот случится - вы будете стоять, задрав голову, и смотреть мне вслед. Я очень ясно вижу эту картину. Мы помолчали. - Кстати, что вы здесь делали? - внезапно спросил он. - Ловил рыбу, - сказал я. - Потом прилетели вы. Оттуда, со стороны солнца. В разговоре наметился перелом. Раньше вопросы задавал я, теперь это делал он. Естественно: моя память обогащалась, его предвидение укорачивалось. Я знал о нем все больше, он обо мне - все меньше. Теперь я лучше его понимал, что никакой пользы от нашего контакта не будет. Я сказал: - Значит, сейчас вы улетите на своем магадо. - Откуда вы знаете, что оно так называется? - Вы сами назвали его так. - Да, возможно. - Гуманоид, грустно улыбнувшись, посмотрел на меня со слабой надеждой. - Значит, мы не сообщили друг другу ничего интересного? - Нет, - сказал я. - К сожалению, так будет всегда, - сказал он. - Прощайте. - Счастливого пути. Он повернулся ко мне спиной и пошел, раздвигая кусты. Устремленный в свое грядущее, он уже не помнил меня. По диску заструился волокнистый туман, и аппарат беззвучно взмыл в чистое утреннее небо. Я стоял на берегу озера и, задрав голову, глядел ему вслед. Я и сейчас ясно вижу эту картину. P.S. если цитаты можно посвящать, то посвящается Vicont-у (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Поблагодарили:
|
|
|
|
 21.12.2008, 17:43 21.12.2008, 17:43
Сообщение
#2
|
|
|
Ректор         Группа: Мember Сообщений: 6070 Регистрация: 2.6.2006 Пользователь №: 1865 Поблагодарили: 5841 раз(а) |
Ги де Мопассан
Покойница Я любил ее безумно. Почему мы любим? Разве не странно видеть в целом мире только одно существо, иметь в мозгу только одну мысль, в сердце только одно желание и на устах только одно имя — имя, которое непрестанно поднимается из недр души, поднимается, как вода в роднике, подступает к губам, которое твердишь, повторяешь, шепчешь всегда и всюду, словно молитву? Не стану рассказывать нашей повести. У любви только одна повесть, всегда одна и та же. Я встретил ее и полюбил. Вот и все. И целый год я жил в атмосфере ее нежности, ее объятий, ее ласк, взоров, речей, до такой степени одурманенный, связанный, плененный всем, что от нее исходило, что уже не сознавал, день ли, или ночь, жив я, или умер, нахожусь ли я на нашей старой земле, или в ином мире. И вот она умерла. Как? Не знаю и никогда не узнаю. Однажды в дождливый вечер она вернулась домой промокшая и на другой день стала кашлять. Она кашляла почти неделю, потом слегла. Что произошло? Я никогда этого не узнаю. Приходили врачи, что-то прописывали, уходили. Приносили лекарства; какая-то женщина заставляла ее принимать их. Руки у моей любимой были горячие, лоб пылающий и влажный, глаза блестящие и печальные. Я говорил с ней, она мне отвечала. О чем мы говорили? Не знаю. Я все позабыл, все, все! Она умерла, помню, как сейчас, ее последний вздох, ее чуть слышный, легкий, последний, вздох. Сиделка вскрикнула: «Ах!» И я понял, я все понял! Больше я ничего не сознавал. Ничего. Явился священник и, говоря о ней, сказал: «Ваша любовница». Мне показалось, что он оскорбил ее. Никто не смел называть ее так, ведь она умерла. Я выгнал его. Пришел другой, очень добрый, очень ласковый. Я плакал, когда он говорил со мной о ней. Меня спрашивали о разных мелочах насчет похорон. О чем, я уж не помню. Зато ясно помню стук молотка, когда заколачивали ее гроб... Ах, боже мой! Ее закопали. Зарыли. Ее! В эту яму! Пришли знакомые, несколько подруг. Я скрылся. Я убежал. Долго бродил по улицам. Потом вернулся домой. На следующий день я уехал путешествовать, Вчера я возвратился в Париж. Когда я снова увидел нашу комнату, нашу спальню, постель, мебель, этот дом, где осталось все, что остается от живого существа после смерти, я снова ощутил такой бурный приступ отчаяния, что готов был отворить окно и выброситься на мостовую. Не в силах дольше оставаться среди этих предметов, в стенах, которые окружали и укрывали ее, где в незримых трещинах сохранились мельчайшие частицы ее существа, ее тела, ее дыхания, я схватил шляпу, чтобы бежать. Почти у самой двери я вдруг наткнулся на большое зеркало в прихожей, которое поставила там она, чтобы всякий раз, выходя из дому, видеть себя с ног до головы, видеть, все ли в порядке в ее туалете, все ли изящно и красиво, от ботинок до прически. И я остановился как вкопанный против зеркала, так часто ее отражавшего. Так часто, что оно тоже должно было сохранить ее образ. Я стоял, весь дрожа, впиваясь глазами в стекло, в плоское, глубокое, пустое стекло, которое заключало ее всю целиком, обладало ею так же, как я, так же, как мой влюбленный взор. Я почувствовал нежность к этому стеклу, я коснулся его — оно было холодное! О память, память! Скорбное зеркало, живое, светлое, страшное зеркало, источник бесконечных пыток! Счастливы люди, чье сердце — подобно зеркалу, где скользят и изглаживаются отражения, — забывает все, что заключалось в нем, что прошло перед ним, смотрелось в него, отражалось в его привязанности, в его любви!.. Какая невыносимая мука! Я вышел и бессознательно, против воли, против желания, направился к кладбищу. Я нашел ее простенькую могилу, мраморный крест и на нем несколько слов: «Она любила, была любима и умерла». Она была там, глубоко, она уже разложилась! Какой ужас! Я зарыдал, припав лицом к земле. Я оставался там долго, долго. Потом заметил, что начинает темнеть. Тогда мной овладело странное желание, безрассудное желание отчаявшегося любовника. Мне захотелось провести ночь возле нее, последнюю ночь, и поплакать на ее могиле. Но меня могли увидеть, могли прогнать. Что делать? Я пустился на хитрость. Я встал и начал бродить по этому городу мертвых. Я шел все дальше и дальше. Как мал этот город в сравнении с тем, другим, с городом живых! И, однако, насколько мертвецы многочисленнее живых! Нам нужно столько высоких домов, столько улиц, столько пространства — всего лишь для тех четырех поколений, которые одновременно живут на белом свете, пьют воду источников, вино виноградников, едят хлеб полей. А для всех поколений мертвых, для всей лестницы человечества, вплоть до наших дней, почти ничего не надо, клочок земли, больше ничего! Земля принимает их, забвение их уничтожает. Прощайте! За оградой нового кладбища я обнаружил вдруг еще одно заброшенное кладбище, где забытые покойники уже обратились в прах, где сгнили самые кресты и куда завтра зароют новых пришельцев. Оно заросло шиповником и могучими темными кипарисами; это пышный, мрачный сад, утучненный человеческими трупами. Я был один, совсем один. Я вскарабкался на высокое дерево. Я спрятался в его густых и темных ветвях. И стал ждать, уцепившись за ствол, точно утопающий за обломок мачты. Когда настала ночь, глубокая ночь, я покинул свое убежище и побрел медленным, неслышным шагом по земле, наполненной мертвецами. Я блуждал долго, долго. Я не мог ее найти. Вытянув руки, широко раскрыв глаза, натыкаясь на могилы руками, ногами, коленями, грудью, даже головой, я шел вперед и не мог ее найти. Я пробирался ощупью, как слепой, я ощупывал камни, кресты, железные решетки, стеклянные венки, венки увядших цветов. Я прочитывал надписи пальцами, водя ими по буквам. Какой мрак! Какая ночь! Я не мог ее найти! Луны не было. Какая тьма! Я шел по узким тропинкам между рядами могил, меня охватывал страх, мучительный страх. Могилы, могилы, могилы! Всюду могилы! Справа, слева, передо мной, вокруг меня — всюду могилы! Я присел на могильную плиту, не в силах идти дальше, у меня подкашивались ноги. Я слышал биение своего сердца. И слышал что-то еще! Что же? Какой-то смутный, непонятный гул. Возник ли этот шум в моем воспаленном мозгу, или он доносился из непроглядной тьмы, или же из таинственных недр земли, из-под земли, засеянной людскими трупами? Я озирался кругом. Сколько времени просидел я там? Не знаю. Я оцепенел от испуга, обезумел от ужаса, готов был кричать, мне казалось, что я умираю. И вдруг мне почудилось, что мраморная плита подо мной зашевелилась. В самом деле, она шевелилась, как будто ее приподнимали. Одним прыжком я отскочил к соседней могиле и увидел, да, увидел своими глазами, как тяжелая каменная плита, где я только что сидел, поднялась стоймя, — и появился мертвец, голый скелет, который отвалил камень своей согнутой спиной. Я видел его, видел совершенно ясно, хотя была глубокая тьма. Я прочитал на кресте: «Здесь покоится Жак Оливан, скончавшийся пятидесяти одного года от роду. Он любил ближних, был добр и честен и почил в мире». Покойник тоже читал слова, начертанные на его могиле. Потом он поднял камень с дорожки, острый камешек, и начал старательно соскабливать надпись. Он медленно стирал ее, вперив пустые глазницы в перекладину креста, затем своим костяным пальцем стал писать буквы, светящиеся, как линии, которые чертят фосфорной спичкой на стекле: «Здесь покоится Жак Оливан, скончавшийся пятидесяти одного года от роду. Своей жестокостью он вогнал в могилу отца, чтобы получить наследство, истязал жену, мучил детей, обманывал соседей, крал, где только мог, и умер, презираемый всеми». Кончив писать, мертвец неподвижно созерцал свою работу, и я увидел, обернувшись, что все могилы раскрыты, что изо всех гробов поднялись скелеты и что все они стирали ложь, написанную родственниками на могильных плитах, чтобы восстановить истину. И я узнал, что все они были палачами своих близких, злодеями, подлецами, лицемерами, лжецами, мошенниками, клеветниками, завистниками, что они воровали, обманывали, совершали самые позорные, самые отвратительные поступки — все эти любящие отцы, верные супруги, преданные сыновья, целомудренные девушки, честные торговцы, все эти мужчины и женщины, слывшие добродетельными. Все разом они писали на пороге своей вечной обители беспощадную, страшную и святую правду, которой не знают или делают вид, что не знают, люди, живущие на земле. Я подумал, что она тоже, наверное, написала правду на своем кресте. И, ничего уже теперь не страшась, я побежал меж зияющих гробов, среди трупов, среди скелетов, и устремился к ней, уверенный, что найду ее сразу. Я узнал ее издали, хотя лицо ее было закрыто саваном. И на мраморном кресте, где я читал недавно: «Она любила, была любима и умерла», я прочел: «Выйдя однажды из дому, чтобы изменить своему любовнику, она простудилась под дождем и умерла». Говорят, меня подобрали на рассвете без чувств возле какой-то могилы... -------------------- "Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы"
Поблагодарили:
|
|
|
|
 21.12.2008, 18:41 21.12.2008, 18:41
Сообщение
#3
|
|
 Профессор        Группа: Banned Сообщений: 3226 Регистрация: 3.4.2008 Из: СПб Пользователь №: 7086 Поблагодарили: 2602 раз(а) |
Что-то у него не в порядке было в жизни, даже и по рассказу видно. Недавно слушал (по радио кажется), что он был легендарным в Париже любовником, заболел сифилисом в 27 лет, что ли, писал об этом кому-то, что наконец-то не какой-нибудь насморк. Умер в 43 года, опять же если память меня не подводит, и уже не соображал ничего в это время, был совсем сумасшедшим.
-------------------- Бог есть!
Поблагодарили:
|
|
|
|
 21.12.2008, 19:04 21.12.2008, 19:04
Сообщение
#4
|
|
|
Ректор         Группа: Мember Сообщений: 6070 Регистрация: 2.6.2006 Пользователь №: 1865 Поблагодарили: 5841 раз(а) |
Что-то у него не в порядке было в жизни, даже и по рассказу видно. Недавно слушал (по радио кажется), что он был легендарным в Париже любовником, заболел сифилисом в 27 лет, что ли, писал об этом кому-то, что наконец-то не какой-нибудь насморк. Умер в 43 года, опять же если память меня не подводит, и уже не соображал ничего в это время, был совсем сумасшедшим. Кажется я статью постила про гениев и безумие, там были такие сведения http://www.sci-lib.net/index.php?showtopic=4276&hl= -------------------- "Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы"
Поблагодарили:
|
|
|
|
 21.12.2008, 19:09 21.12.2008, 19:09
Сообщение
#5
|
|
 Профессор        Группа: Banned Сообщений: 3226 Регистрация: 3.4.2008 Из: СПб Пользователь №: 7086 Поблагодарили: 2602 раз(а) |
Кажется я статью постила про гениев и безумие, там были такие сведения http://www.sci-lib.net/index.php?showtopic=4276&hl= Может и правда из той статьи. У меня почему-то сведения подобного рода в голове остаются, а откуда они взялись---нет. А радио постоянно на кухне говорит и там время от времени рассказывают что-нибудь интересное. -------------------- Бог есть!
Поблагодарили:
|
|
|
|
 27.12.2008, 2:01 27.12.2008, 2:01
Сообщение
#6
|
|
|
Ректор         Группа: Мember Сообщений: 6070 Регистрация: 2.6.2006 Пользователь №: 1865 Поблагодарили: 5841 раз(а) |
А.С. ПУШКИН
Станционный смотритель В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных, и платил прогоны за две лошади. В следствие сего смотрители со мною не церемонились, и часто бирал я с бою то, что, во мнении моем, следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: чин чина почитай, ввелось в употребление другое, на пример: ум ума почитай? Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести. День был жаркий. В трех верстах от станции *** стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию, первая забота была поскорее переодеться, вторая спросить себе чаю. "Эй, Дуня!" закричал смотритель, "поставь самовар, да сходи за сливками". При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати, и побежала в сени. Красота ее меня поразила. "Это твоя дочка?" спросил я смотрителя. - "Дочка-с" отвечал он с видом довольного самолюбия; "да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать". Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы. Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцаловать; Дуня согласилась... Много могу я насчитать поцалуев, с тех пор, как этим занимаюсь, но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания. Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменен; вероятно Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем, и я приближался к станции *** с печальным предчувствием. Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, висевшие на стенах; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом; мой приезд разбудил его; он привстал... Это был точно Самсон Вырин; но как он постарел! Покаместь собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину - и не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. "Узнал ли ты меня?" спросил я его; "мы с тобою старые знакомые". - "Может статься", отвечал он угрюмо; "здесь дорога большая; много проезжих у меня перебывало". - "Здорова ли твоя Дуня?" продолжал я. Старик нахмурился. "А бог ее знает", отвечал он. - "Так видно она замужем?" сказал я. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса, и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца. Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив; вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула. "Так вы знали мою Дуню?" начал он. "Кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка то была! Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом деле только, чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры, фельд-егеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать". Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. - Три года тому назад, однажды, в зимний вечер, когда смотритель разлиневывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинеле, окутанный шалью, вошел в комнату, етребуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При сем известии путешественник возвысил было голос и нагайку; но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел; он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую, косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего; но возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти лежащего на лавке: ему сделалось дурно, голова разболелась, не возможно было ехать... Как быть! смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в С*** за лекарем. На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе, и охая заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы, и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою своей рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки, и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие, и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом. Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дунею, то с смотрителем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу, и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный; Дуня собиралась к обедни. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение; простился и с Дунею и вызвался довезти ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении... "Чего же ты боишься?" сказал ей отец; "ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви". Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул и лошади поскакали. Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел, и пошел сам к обедни. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь; священник выходил из алтаря; дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу; но Дуни в церкве не было. Бедный отец на силу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывала. Смотритель пошел домой ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда: Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец к вечеру приехал он один и хмелен, с убийственным известием: "Дуня с той станции отправилась далее с гусаром". Старик не снес своего несчастья; он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкою; его свезли в С*** и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец, или только желал похвастаться дальновидностию, но он ни мало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у С*** почтмейстера отпуск на два месяца, и не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своею дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. "Авось" думал смотритель, "еприведу я домой заблудшую овечку мою". С этой мыслию прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться. Рано утром пришел он в его переднюю, и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке объявил, что барин почивает, и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. "Что, брат, тебе надобно?" спросил он его. Сердце старика закипело, сльзы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только: "Ваше высокоблагородие!.. сделайте такую божескую милость!.." Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. "Ваше высокоблагородие!" продолжал старик, "что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите ж ее по напрасну". - "Что сделано, того не воротишь", сказал молодой человек в крайнем замешательстве; " я виноват перед тобою, и рад просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она - вы не забудете того, что случилось". Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице. Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти и десятирублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их на земь, притоптал каблуком, и пошел... Отошед несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: "пошел!.." Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сего, дни через два, воротился он к Минскому; но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней, и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, постоял - да и пошел. В этот самый день, вечером, шел он по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом, у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился, и поровнявшись с кучером: "Чья, брат, лошадь?" спросил он, "не Минского ли?" - "Точно так", отвечал кучер, "а что тебе?" - "Да вот что: барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет". - "Да вот здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской; теперь уж он сам у нее". - "Нужды нет", возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца, "спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю". И с этим словом пошел он по лестнице. Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько секунд; в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. "Здесь стоит Авдотья Самсоновна?" спросил он. "Здесь" отвечала молодая служанка; "за чем тебе ее надобно?" Смотритель, не отвечая, вошел в залу. "Нельзя, нельзя!" закричала вслед ему служанка: "у Авдотьи Самсоновны гости". Но смотритель, не слушая шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате прекрасно-убранной Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он по неволе ею любовался. "Кто там?" спросила она, не подымая головы. Он всь молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову... и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать, и вдруг увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню, и подошел к нему, дрожа от гнева. "Чего тебе надобно?" сказал он ему, стиснув зубы; "что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? или хочешь меня зарезать? Пошел вон!" и сильной рукою схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу. Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступиться. Через два дни отправился он из Петербурга обратно на свою станцию, и опять принялся за свою должность. "Вот уже третий год, заключил он, как живу я без Дуни, и как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы..." Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжении своего повествования; но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне... Недавно еще, проезжая через местечко ***, вспомнил я о моем приятеле; я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой: "Жив ли старый смотритель?" никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н. Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцаловала меня бедная Дуня) вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром. "От чего ж он умер?" спросил я пивоварову жену. - "Спился, батюшка", отвечала она. - "А где его похоронили?" - "За околицей, подле покойной хозяйки его". - "Не льзя ли довести меня до его могилы?" - "Почему же нельзя. Эй, Ванька! полно тебе с кошкою возиться. Проводи-ка барина на кладбище, да укажи ему смотрителеву могилу". При сих словах, оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу. "Знал ты покойника?" спросил я его дорогой. "Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало (царство ему небесное!) идет из кабака, а мы-то за ним: "Дедушка, дедушка! орешков!" - а он нас орешками и наделяет. Все бывало с нами возится". "А проезжие вспоминают ли его?" "Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу". "Какая барыня" спросил я с любопытством. "Прекрасная барыня" отвечал мальчишка; "ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: "Сидите смирно, а я схожу на кладбище". А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: "Я сама дорогу знаю". И дала мне пятак серебром - такая добрая барыня!.." Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцем. Отроду не видал я такого печального кладбища. "Вот могила старого смотрителя", сказал мне. мальчик, вспрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест с медным образом. "И барыня приходила сюда?" спросил я. "Приходила", отвечал Ванька; "я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром - славная барыня!" И я дал мальчишке пятачок, и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных. -------------------- "Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы"
Поблагодарили:
|
|
|
|
 27.12.2008, 7:56 27.12.2008, 7:56
Сообщение
#7
|
|
 Профессор        Группа: Banned Сообщений: 3226 Регистрация: 3.4.2008 Из: СПб Пользователь №: 7086 Поблагодарили: 2602 раз(а) |
А.С. ПУШКИН Станционный смотритель Мой любимый рассказ из "Повестей Белкина". Сколько раз ни перечитываешь, не приедается, пока не приелся по крайней мере (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- Бог есть!
Поблагодарили:
|
|
|
|
 27.12.2008, 10:21 27.12.2008, 10:21
Сообщение
#8
|
|
 Профессор        Группа: Moderator Сообщений: 2708 Регистрация: 26.10.2008 Из: Россия, Самара Пользователь №: 9379 Поблагодарили: 3108 раз(а) |
Жюль Сюпервьель
Родился в Монтевидео (Уругвай) в 1884-м, умер в Париже в 1960-м. В "Литературном энциклопедическом словаре" не упомянут. "Советский энциклопедический словарь" (1988) уделил ему восемь строчек. Восьмитомная "Литературная энциклопедия" - 55 строк да 10 строк библиографии... Речь идет о французском поэте, писателе и драматурге Жюле Сюпервьеле, авторе пятнадцати поэтических сборников, четырех романов, двух сборников рассказов, комедий... О человеке, которого французы называют одним из величайших поэтов XX века. Для того чтобы сосчитать, сколько раз Жюль Сюпервьель переводился на русский язык, достаточно пальцев одной руки: несколько стихотворений в сборниках поэзии французского Сопротивления, один маленький рассказ в антологии "Французская новелла двадцатого века". Может быть, публиковалось еще что-то, но очень немного. Ни единого романа... Ни единого сборника стихотворений... Господи, сколько же для нас "белых пятен" в мировой литературе! Сколько неизвестных великих имен, сколько замечательных произведений оставалось за "железным занавесом"! И сколько еще остается за другим занавесом деревяннорублевым... Жюль Сюпервьель - действительно прекрасный поэт. И проза его преимущественно фантастическая, сказочная - тоже удивительно поэтична. Будем пока читать его притчи, собранные в этой небольшой книжке. Придет время, надеемся, - увидим и романы, и поэзию, и драматургию этого автора. Автора, о котором один французский критик сказал: "Все, кто умеет читать, должны с ним познакомиться в первую очередь". ДИТЯ ВОЛН L' enfant de la haute mer Как родилась эта плавучая улица? Что за моряки да какие такие архитекторы создали ее прямо на поверхности моря над шестикилометровой атлантической впадиной? Эту длинную улицу с домами из когда-то красного кирпича, давно посеревшего от времени, эти шиферные и черепичные крыши, эти скромные лавочки, кажущиеся незыблемыми?.. И эту ажурную колокольню?.. И что это как не соленая морская вода, которая явно хочет выглядеть садом, огороженным стенами с узорами из бутылочных стеклышек, стенами, через которые иной раз перепрыгивает рыбешка?.. Как же удерживалась на плаву эта улица, и ведь даже волны не раскачивали ее? И эта двенадцатилетняя девочка, такая одинокая, которая уверенным шагом проходила в деревянных своих сабо по текучей улице, словно ступая по земной тверди? Откуда все это взялось? Мы расскажем о событиях лишь в той мере, в какой видим их и в какой о них знаем. А что укрылось от нашего зрения - то укрылось, ничего не поделаешь. Когда приближался какой-нибудь корабль, пусть даже он еще не появлялся на горизонте, девочка впадала в глубокий сон, и тогда деревня исчезала, полностью скрывалась под волнами. Вот почему ни один моряк, даже вооруженный биноклем, никогда не замечал плавучей деревни и вовсе не подозревал о ее существовании. Дитя волн, девочка считала себя единственным ребенком на свете. Да и вообще - осознавала ли она себя маленькой девочкой? Она была не очень красивой - редкие зубы, чуть вздернутый нос, но белоснежное лицо украшали несколько очаровательных пятнышек, так и хочется сказать - конопушек, а повелительный взор ее серых, вроде бы совсем обычных, но удивительно лучистых глаз проникал в самую душу, и то была великая тайна, явившаяся из глубин веков. Проходя по улице, единственной улице в этой деревне, девочка порой бросала взгляд то вправо, то влево, словно бы Ожидая, что кто-нибудь дружески кивнет ей или помашет рукой. Но так только казалось - девочка делала это совершенно бессознательно, ибо ничто и никто, ни один человек не мог появиться в этой затерявшейся среди вод деревушке, всегда готовой исчезнуть в волнах. Чем питалась девочка? Рыбой? Вовсе нет. Она находила продукты в кухонном шкафу или кладовке, и даже мясо появлялось каждые два-три дня. Там всегда были картошка и другие овощи, время от времени обнаруживались яйца. Припасы нарождались как бы сами собой. Когда девочка принималась за варенье, его оставалось потом в горшочке сколько было прежде, и походило на то, что продукты, появившись однажды, должны были оставаться в шкафах вечно. По утрам на мраморном прилавке булочной, в которой никогда не было ни единого покупателя, ребенка ждала завернутая в бумагу краюшка свежего хлеба, и ничья рука не протягивала девочке хлеб, никто даже пальцем не пододвигал к ней буханку. Она вставала спозаранку, поднимала тяжелые железные жалюзи магазинов, ресторанчиков и мастерских (там можно было прочитать: "Таверна", затем "Кузница", "Новейшая булочная", "Галантерея"...), открывала ставни всех домов деревни - их тщательно навесили по причине крепких морских ветров, и, сообразно с обстоятельствами, девочка либо открывала окна, либо же так и оставляла закрытыми. В иных кухнях она разжигала печи, чтобы над тремя-четырьмя крышами всегда поднимался дым. За час до захода солнца девочка с легкостью закрывала ставни. И опускала жалюзи из рифленого железа. Будто какой-то инстинкт, какое-то неиссякаемое вдохновение заставляли ребенка выполнять эти работы и следить буквально за всем в деревне. Когда выдавался погожий денек, девочка выставляла за окно одного из домов ковер или развешивала белье на просушку, словно любой ценой следовало показать, что деревня обитаема, и видимость эта должна быть как можно достовернее. А еще круглый год девочке приходилось заботиться о флаге над мэрией, открытом всем ветрам. По ночам она зажигала свечи или шила при свете лампы. Во многих домах городка было электричество, и девочка с природной грацией щелкала выключателями. Как-то раз она укрепила на входной двери одного дома, рядом с молотком, бант из черного крепа. Ей показалось, что так будет правильно. Бант висел на двери два дня, а потом девочка его спрятала. В другой раз она принялась бить в большой барабан, сигнальный барабан деревни, словно бы ей понадобилось объявить некую новость. Девочка ощутила сильнейшее желание прокричать что-то во весь голос, что-то такое, чтобы услышали на всех берегах моря, но горло сжалось, и из него не вырвалось ни единого звука. Девочка так напряглась, что лицо и шея почернели, как у утопленницы. А затем следовало отнести барабан на положенное место - в левый угол большого зала мэрии. На колокольню девочка взбиралась по винтовой лестнице, ее ступеньки были истоптаны тысячами никому не видимых ног. С колокольни, куда, как думала девочка, вели никак не меньше пятисот ступенек (на самом деле, девяносто две), можно было видеть небо, много неба, намного больше, чем открывалось с улицы, выложенной желтым кирпичом. И еще приходилось ухаживать за тяжелым механизмом настенных часов и заводить их рукояткой, чтобы они всегда показывали точное время, днем и ночью. Склеп, каменные святые, стоящие в молчаливом порядке, стройные ряды стульев, которые, казалось, слегка поскрипывали сами по себе, ожидая, когда на них усядутся живые существа всех времен, дряхлеющие золотые алтари, которые словно мечтали дряхлеть и впредь, - все это одновременно и привлекало и отталкивало девочку - она никогда не заходила в высокое здание собора, ограничиваясь тем, что время от времени, в часы досуга, приоткрывала массивную дверь и, затаив дыхание, окидывала взглядом помещение. В комнате девочки, в чемодане, хранились семейные реликвии - несколько почтовых открыток из Дакара, Рио-де-Жанейро, Гонконга, подписанных "Шарль" или "Ш. Льеван" и отправленных в городок Стенворд (департамент Нор). Девочка, дитя волн, представления не имела, где лежат эти дальние страны, кто такой этот Шарль и что за город такой Стенворд. А еще девочка хранила в шкафу альбом с фотографиями. На одном из снимков был ребенок, очень похожий на нее, девочку Океана и она часто разглядывала эту фотографию, как бы примиряя себя с действительностью: вот изображение, в котором навсегда запечатлен здравый смысл, оно всегда правдиво. Ребенок на снимке держал в руке серсо. Девочка обыскала все дома в деревне, пытаясь найти что-либо похожее. И однажды она уже решила было, что наконец нашла, - то был железный обруч от бочки. Но едва девочка побежала с ним по морской улице, как обруч исчез в глубине вод. На другой фотографии маленькая девочка стояла между мужчиной в матросской форме и принаряженной женщиной, очень худой и костлявой. Девочка, дитя прилива, никогда в жизни не видела ни мужчин, ни женщин и постоянно спрашивала себя, что означают эти люди. Вопрос мучил ребенка даже глубокой ночью, в то время, когда вас вдруг озаряет, словно вспышка молнии, необыкновенная ясность ума. Каждое утро девочка отправлялась в деревенскую школу с большим ранцем, набитым тетрадями, учебниками грамматики, арифметики, истории Франции, географии. А еще у нее была книга Гастона Боннье, члена Института и профессора Сорбонны, и Жоржа де Лайяна, лауреата Академии естественных наук, небольшой ботанический указатель, который содержал восемьсот девяносто восемь иллюстраций, изображавших самые распространенные растения, а также растения полезные и вредные. В предисловии девочка прочитала: "В летнее время года нет ничего лучшего, чем гулять по полям и лесам и собирать в больших количествах различные растения". А история, география, разные страны, великие люди, горы, реки, границы между государствами? Как объяснить все это тому, у кого нет ничего, кроме пустой улицы крохотного городка, столь одинокого посреди Океана? Да и сам Океан, который девочка часто разглядывала на карте... Она не знала даже, что подумать о себе, плывущей над его глубинами, хотя как-то раз мысль о своем существовании и закралась на минутку в ее голову. Но девочка тут же прогнала эту мысль, глупую и опасную. Временами девочка покорно прислушивалась к чему-то, записывала несколько слов, опять прислушивалась и снова принималась писать, будто под диктовку какой-то невидимой учительницы. Затем девочка открывала грамматику и, затаив дыхание, склонялась над шестидесятой страницей, где упражнение 168 надолго приковывало ее внимание. Казалось, учебник сам начинал говорить, обращаясь непосредственно к ребенку прилива: - Вы существуете? - вы думаете? - вы разговариваете? - вы желаете чего-либо? - надобно ли к вам обращаться? - что с вами происходит? - вы обвиняете кого-нибудь? - на что вы способны? -вы в чем-либо виновны? - у вас есть вопросы? - вы получили этот подарок? о-о! - вы на что-нибудь жалуетесь? (Замените тире между вопросами подходящими местоимениями, употребляя, где необходимо, предлоги.) Частенько девочка сама испытывала острое желание написать несколько фраз. И она делала это с отменным прилежанием. Вот примеры таких фраз, выбранные из величайшего множества: - Давайте поделимся этим, ладно? - Выслушайте меня хорошенько. Сядьте, не двигайтесь, умоляю вас! - Если бы у меня было хоть немного снега с горных вершин, день пролетел бы куда быстрее. - Пена, вокруг меня пена, пусть же она никогда не перестает превращаться во что-то твердое. - Чтобы встать в круг, надо не меньше трех человек. - Были две безголовые тени, и они уходили вдаль по пыльной дороге. - Ночь, день, день, ночь, облака и летучие рыбки. - Я подумала, что слышу какой-то шум, но это был всего лишь шум моря. Или же девочка садилась и писала письмо, в котором сообщала новости о своей деревне и о самой себе. Письмо никому не адресовалось, в конце его не было никаких "целую", а на конверте отсутствовало имя отправителя. Закончив письмо, девочка бросала послание в море - вовсе не затем, чтобы избавиться от него, просто так полагалось, - может, это было в традиции терпящих крушение мореплавателей, которые в отчаянии пускают по волнам бутылку с последним "прости". Время словно застыло над плавучей деревушкой - девочке всегда оставалось двенадцать лет. Напрасно она напрягала свое хрупкое тело, всматриваясь в зеркальный шкаф, стоящий в ее комнате. Однажды девочке, с ее косичками и таким непринужденным лицом, надоело быть похожей на фотографию в альбоме; рассердившись на себя и свой портрет, она яростно распустила волосы по плечам в надежде, что мгновенно повзрослеет. Может быть, даже море, раскинувшееся вокруг, как-то переменится, из него выйдут большие козы с пенными бородами и приблизятся, чтобы посмотреть на девочку, одолевшую время. Но Океан оставался пустынным, и девочку никто не посещал, кроме падающих звезд. Как-то раз судьба послала ей развлечение, и само существование девочки дало трещину. Внезапно появилось настоящее маленькое грузовое судно, из его трубы валил дым. Уверенно держась на воде, хотя было видно, что груз невелик (красивая красная полоска под ватерлинией так и блестела на солнце), упрямо, как бульдог, суденышко плыло по морской деревенской улице, и дома при этом не исчезали под волнами, а девочка не впадала в сон. Это случилось ровно в полдень. На грузовозе включили сирену, но голос пришельца не смешался с боем часов. Звуки жили независимо друг от друга. Девочка, которая впервые в жизни услышала шум, вызванный людьми, бросилась к окну и что было сил крикнула: - На помощь! И бросила свой школьный фартук в сторону проходящего судна. Рулевой даже не повернул головы. По мостику прошелся, как ни в чем не бывало, матрос, попыхивавший трубкой. Прочие продолжали заниматься постирушкой, а дельфины пустились наутек от форштевня, уступая дорогу спешащему судну. Девочка стремглав спустилась на улицу, бросилась плашмя на след, оставленный судном, и так долго обнимала кильватерную струю, что, когда наконец поднялась на ноги, перед ней снова была девственно чистая поверхность моря, не сохранившая никакой памяти о прошедшем грузовозе. Возвращаясь в дом, девочка изумилась - как же так, ведь она крикнула "На помощь!". Только сейчас она поняла глубинный смысл этих слов. И случившееся ужаснуло ее. Развезти люди не услышали крика девочки? Или все моряки были глухими и слепыми? Или они еще более жестоки, чем глубины моря? И тут за девочкой пришел большой вал, который раньше всегда держался на некотором удалении от деревни, оставаясь, однако, в пределах видимости. Это был действительно огромный вал, он простирался намного шире, чем другие валы по его бокам. На гребне виднелись два пенных глаза, удивительно схожие с настоящими глазами. Можно было бы сказать, что этот вал кое-что понимает, но одобряет далеко не все. Хотя за день он сотни раз возникал и распадался вновь, вал никогда не забывал про глаза: они неизменно появлялись на одном и том же месте - пенные, отлично сработанные. Поражало еще и вот что: иногда, когда вал что-то особенно интересовало, гребень на целую минуту застывал в воздухе, словно гигантская волна забывала о своей сущности и о том, что должна возрождаться каждые семь секунд. Уже давно вал собирался сделать что-нибудь для девочки, но не знал что. Он видел, как удалялось судно, и понимал, какую тоску оно оставило в сердце ребенка. Не теряя ни минуты, вал унес девочку, как бы взяв ее за руку, - но унес недалеко от дома. Преклонившись перед девочкой, как это умеют делать волны, вал с величайшей бережностью вобрал ее в себя и держал в своих глубинах очень долго, пытаясь, не без помощи смерти, забрать ребенка насовсем. А девочка задержала дыхание, чтобы помочь валу выполнить столь важный замысел. Когда же он не удался, волна подбросила девочку так высоко, что та стала не больше морской ласточки, потом поймала, вновь подбросила, как мячик, и девочка упала в хлопья пены, большие, как страусиные яйца. Наконец, увидев, что ничего не получается, что ему не удастся отдать ребенка в объятья смерти, вал, с глухим рокотом слез и извинений, вернул девочку домой. А девочке, которая не получила ни царапины, не оставалось ничего другого, как вновь и вновь в полной безнадежности открывать и закрывать ставни и мгновенно скрываться под водой, лишь только над горизонтом вырастала мачта какого-нибудь судна. Моряки, мечтающие в открытом море, облокотившись на планширь, остерегайтесь слишком долго грезить темными ночами о любимых лицах. Вы рискуете породить на свет где-нибудь в самом пустынном месте странное существо, одаренное всеми человеческими чувствами, но не способное ни жить, ни любить, ни умереть, существо, которое тем не менее страдает, как будто оно живет и любит, и все время стоит на пороге смерти, существо, поразительно обездоленное в безбрежности морей, - как наше дитя Океана, рожденное воображением Шарля Льевана из городка Стенворд, палубного матроса с четырехмачтовика "Смелый", который в одном из плаваний потерял свою двенадцатилетнюю дочь и как-то глубокой ночью, находясь под пятьдесят пятым градусом северной широты и тридцать пятым градусом западной долготы, так долго грезил о ней, с такой невероятной скорбью, что принес ребенку страшное несчастье. -------------------- Поблагодарили:
|
|
|
|
 16.01.2009, 22:08 16.01.2009, 22:08
Сообщение
#9
|
||
 Профессор        Группа: Banned Сообщений: 3226 Регистрация: 3.4.2008 Из: СПб Пользователь №: 7086 Поблагодарили: 2602 раз(а) |
Подушки
Что моя подушка живая, я заметил уже давно. Слишком уж хитрая у нее морда. Но до сегодняшнего дня она вела себя спокойно. Ну то есть не как сейчас. Не заползала на карниз, например. И не пряталась в коробку с новогодними игрушками. И не тырила пряники. Странная. С неделю назад застал ее с бурым медведем. Милый игрушк, с детства сидит у меня под торшером. И вот вхожу, зажигаю свет, а он подушку в лапах держит. Ну я не стал их тревожить, достал запасное одеяло, скатал валиком и спал на нем. Крепко. А когда проснулся, около медведя и подушки лежала маленькая думка - коричневая, пушистая, с глазами-пуговицами. Ну вся в родителей. И, главное, смотрит так мило, наивно... По-доброму... Ребята, я не знаю, что делать. Их уже двенадцать, и становится все больше. Пестрые, в полосочку, в горошек... Самые старшие уже подросли до диванных и продолжают увеличиваться. Медведь сидит довольный. Я сплю на одеяле. Мир и гармония, но это все-таки моя квартира... Может, пора снять угол? А то они заполнят весь мир! Я готов скинуться на отдельную кровать. (Продолжаю играть в художника :-) ) Взято отсюда -------------------- Бог есть!
|
|
|
|
||
 17.01.2009, 16:42 17.01.2009, 16:42
Сообщение
#10
|
|
|
Ректор         Группа: Мember Сообщений: 6070 Регистрация: 2.6.2006 Пользователь №: 1865 Поблагодарили: 5841 раз(а) |
О' Генри
Погребок и роза Мисс Пози Кэрингтон заслуженно пользовалась славой. Жизнь ее началась под малообещающей фамилией Боге, в деревушке Кранбери Корнерс. В восемнадцать лет она приобрела фамилию Кэрингтон и положение хористки в столичном театре фарса. К моменту нашего рассказа мисс Кэрингтон купалась в славе, лести и шампанском, и дальновидный герр Тимоти Гольдштейн, антрепренер, заручился ее подписью на солидном документе, гласившем, что мисс Пози согласна блистать весь наступающий сезон в новой пьесе Дайд Рича "При свете газа". Незамедлительно к герру Тимоти явился молодой талантливый сын века, актер на характерные роли, мистер Хайсмис, рассчитывавший получить ангажемент на роль Соля Хэйтосера, главного мужского комического персонажа в пьесе. - Милый мой, - сказал ему Гольдштейн, - берите роль, если только вам удастся ее получить. Мисс Кэрингтон меня всё равно не послушает. Она уже отвергла с полдюжины лучших актеров на амплуа "деревенских простаков". И говорит, что ноги ее не будет на сцене, пока не раздобудут настоящего Хэйтосера. Она, видите ли, выросла в провинции, и когда этакое оранжерейное растеньице с Бродвея, понатыкав в волосы соломинок, пытается изображать полевую травку, мисс Пози просто из себя выходит. Так вот, мой милый, хотите играть Соля Хэйтосера - сумейте убедить мисс Кэрингтон. Желаю удачи. На следующий день Хайсмис уже ехал поездом в Кранбери Корнерс. Он пробыл в этом глухом и скучном местечке три дня. Он разыскал Богсов и вызубрил назубок всю историю их рода до третьего и четвертого поколений включительно. Он тщательно изучил события и местный колорит Кранбери Корнерс. Деревня не поспевала за мисс Кэрингтон. На взгляд Хайсмиса, там, со времени отбытия единственной жрицы Терпсихоры, произошло так же мало существенных перемен, как бывает на сцене, когда предполагается, что "с тех пор прошло четыре года". Приняв, подобно хамелеону, окраску Кранбери Корнерс, Хайсмис вернулся в город хамелеоновских превращений. Все произошло в маленьком погребке, - именно здесь пришлось Хайсмису блеснуть своим актерским искусством. В одиннадцать сорок пять в погребок вошло некое существо. Первая скрипка вместо ля взяла ля бемоль; кларнет пустил петуха в середине фиоритуры; мисс Кэрингтон фыркнула, а юноша с пробором проглотил косточку от маслины. Вид у вновь вошедшего был восхитительно и безупречно деревенский. Тощий, нескладный, неповоротливый парень с льняными волосами, с разинутым ртом, неуклюжий, одуревший от обилия света и публики. На нем был костюм цвета орехового масла и ярко-голубой галстук, из рукавов на четыре дюйма торчали костлявые руки, а из-под брюк на такую же длину высовывались лодыжки в белых носках. Он опрокинул стул, уселся на другой, закрутил винтом ногу вокруг ножки столика и заискивающе улыбнулся подошедшему к нему лакею. - Мне бы стаканчик имбирного пива, - сказал он в ответ на вежливый вопрос официанта. Взоры всего погребка устремились на пришельца. Он был свеж, как молодой редис, и незатейлив, как грабли. Вытаращив глаза, он сразу же принялся блуждать взглядом по сторонам, словно высматривая, не забрели ли свиньи на грядки с картофелем. Наконец, его взгляд остановился на мисс Кэрингтон. Он встал и пошел к ее столику с широкой сияющей улыбкой, краснея от приятного смущения. - Как поживаете, мисс Пози? - спросил он с акцентом, не оставляющим сомнения в его происхождении. - Или вы не узнаете меня? Я ведь Билл Самерс, - помните Самерсов, которые жили как раз за кузницей? Ну ясно, я малость подрос с тех пор, как вы уехали из Кранбери Корнерс. А знаете, Лиза Перри так и полагала, что я, очень даже возможно, могу встретиться с вами в городе. Лиза ведь, знаете, вышла замуж за Бэна Станфилда, и она говорит... - Да что вы? - перебила его мисс Пози с живостью. - Чтобы Лиза Перри вышла замуж? С ее-то веснушками?! - Вышла замуж в июне, - ухмыльнулся сплетник. - Теперь она переехала в старый Татам-Плейс. А Хэм Райли, тот стал святошей. Старая мисс Близерс продала свой домишко капитану Спунеру; у Уотерсов младшая дочка сбежала с учителем музыки; в марте сгорело здание суда, вашего дядюшку Уайли выбрали констеблем; Матильда Хоскинс загнала себе иглу в руку и умерла. А Том Бидл приударяет за Салли Лазроп, - говорят, ни одного вечера не пропускает, все торчит у них на крылечке. - За этой лупоглазой? - воскликнула мисс Кэрингтон несколько резко. - Но ведь Том Бидл когда-то... Простите, друзья, я сейчас. Знакомьтесь. Это мой старый приятель, мистер как вас? Да, мистер Самерс, мистер Гольдштейн, мистер Рикетс, мистер о, а как же ваша фамилия? Ну, все равно: Джонни. А теперь пойдемте вон туда, расскажите мне еще что-нибудь. Она повлекла его за собой к пустому столику, стоявшему в углу. Юноша с пробором погрузился в меланхолию. Пози Кэрингтон оперлась на руки своим очаровательным подбородком с ямочкой. - Я что-то не припоминаю никакого Билла Самерса, - сказала она задумчиво, глядя прямо в невинные голубые глаза сельского жителя. - Но вообще-то Самерсов я помню. У нас там, наверное, не много произошло перемен. Вы моих давно видали? И тут Хайсмис пустил в ход свой козырь. Роль Соля Хэйтосера требовала не только комизма, но и пафоса. Пусть мисс Кэрингтон убедится, что и с этим он справляется не хуже. - Мисс Пози, - начал "Билл Самерс" - Я заходил в ваш родительский дом всего дня три тому назад. Да, правду сказать, особо больших перемен там нет. Вот сиреневый куст под окном кухни вырос на целый фут, а вяз во дворе засох, пришлось его срубить. И все-таки все словно бы не то, что было раньше. - Как мама? - спросила мисс Кэрингтон. - Когда я в последний раз видел ее, она сидела на крылечке, вязала дорожку на стол, - сказал "Билл". - Она постарела, мисс Пози. Но в доме все по-прежнему. Ваша матушка предложила мне присесть. "Только, Уильям, не троньте ту плетеную качалку, - сказала она. - Ее не касались с тех пор, как уехала Пози. И этот фартук, который она начала подрубать, - он тоже так вот и лежит с того дня, как она сама бросила его на ручку качалки. Я все надеюсь, - говорит она, - что когда-нибудь Пози еще дошьет этот рубец". Мисс Кэрингтон властным жестом подозвала лакея. - Шампанского - пинту, сухого, - приказала она коротко. - Солнце светило прямо на крыльцо, - продолжал кранберийский летописец, - и ваша матушка сидела как раз против света. Я, значит, и говорю, что, может, ей лучше пересесть немножко в сторону. "Нет, Уильям, - говорит она, - стоит мне только сесть вот так да начать посматривать на дорогу, и я уж не могу сдвинуться с места. Всякий день, как только выберется свободная минутка, я гляжу через изгородь, высматриваю, не идет ли моя Пози. Она ушла от нас ночью, а наутро мы видели в пыли на дороге следы ее маленьких башмачков. И до сих пор я все думаю, что когда-нибудь она вернется назад по этой же самой дороге, когда устанет от шумной жизни и вспомнит о своей старой матери". - Когда я уходил, - закончил "Билл", - я сорвал вот это с куста перед вашим домом. Мне подумалось, может я и впрямь увижу вас в городе, ну, и вам приятно будет получить что-нибудь из родного дома. Он вытащил из кармана пиджака розу - блекнущую, желтую, бархатистую розу, поникшую головкой в душной атмосфере этого вульгарного погребка, как девственница на римской арене перед горячим дыханием львов. Громкий, но мелодичный смех мисс Пози заглушил звуки оркестра, исполнявшего "Колокольчики". - Ах, бог ты мой, - воскликнула она весело. - Ну есть ли что на свете скучнее нашего Кранбери? Право, теперь бы, кажется, я не могла бы пробыть там и двух часов - просто умерла бы со скуки. Ну да я очень рада, мистер Самерс, что повидалась с вами: А теперь, пожалуй, мне пора отправляться домой да хорошенько выспаться. Она приколола желтую розу к своему чудесному элегантному шелковому платью, встала и повелительно кивнула в сторону герра Гольдштейна. Все трое ее спутников и "Билл Самерс" проводили мисс Пози к поджидавшему ее кэбу. Когда все ее оборки и ленты были благополучно размещены, мисс Кэрингтон на прощанье одарила всех ослепительным блеском, зубок и глаз. - Зайдите навестить меня, Билл, прежде чем поедете домой, - крикнула она, и блестящий экипаж тронулся. Хайсмис, как был, в своем маскарадном костюме, отправился с герром Гольдштейном в маленькое кафе. - Ну, каково, а? - спросил актер, улыбаясь. - Придется ей дать мне Соля Хэйтосера, как по-вашему? Прелестная мисс ни на секунду не усомнилась. - Я не слышал, о чем вы там разговаривали, - сказал Гольдштейн, - но костюм ваш и манеры - окэй. Пью за ваш успех. Советую завтра же, с утра, заглянуть к мисс Кэрингтон и атаковать ее насчет роли. Не может быть, чтобы она осталась равнодушна к вашим способностям. В одиннадцать сорок пять утра на следующий день Хайсмис, элегантный, одетый по последней моде, с уверенным видом, с цветком фуксии в петлице, явился к мисс Кэрингтон в ее роскошные апартаменты в отеле. К нему вышла горничная актрисы, француженка. - Мне очень жаль, - сказала мадемуазель Гортенз, - но мне поручено передать это всем. Ах, как жаль! Мисс Кэрингтон разорваль все контракт с театром и уехаль жить в этот, как это? Да, в Кранбери Корнэр. -------------------- "Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы"
Поблагодарили:
|
|
|
|
 28.01.2009, 22:30 28.01.2009, 22:30
Сообщение
#11
|
|
|
Ректор         Группа: Мember Сообщений: 6070 Регистрация: 2.6.2006 Пользователь №: 1865 Поблагодарили: 5841 раз(а) |
А.П. ЧЕХОВ
Спать хочется Ночь. Нянька Варька, девочка лет тринадцати, качает колыбель, в которой лежит ребенок, и чуть слышно мурлычет: Баю?баюшки?баю, А я песенку спою… Перед образом горит зеленая лампадка; через всю комнату от угла до угла тянется веревка, на которой висят пеленки и большие черные панталоны. От лампадки ложится на потолок большое зеленое пятно, а пеленки и панталоны бросают длинные тени на печку, колыбель, на Варьку… Когда лампадка начинает мигать, пятно и тени оживают и приходят в движение, как от ветра. Душно. Пахнет щами и сапожным товаром. Ребенок плачет. Он давно уже осип и изнемог от плача, но все еще кричит, и неизвестно, когда он уймется. А Варьке хочется спать. Глаза ее слипаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами, и ей кажется, что лицо ее высохло и одеревенело, что голова стала маленькой, как булавочная головка. – Баю-баюшки-баю, – мурлычет она, – тебе кашки наварю… В печке кричит сверчок. В соседней комнате, за дверью, похрапывают хозяин и подмастерье Афанасий… Колыбель жалобно скрипит, сама Варька мурлычет – и все это сливается в ночную, убаюкивающую музыку, которую так сладко слушать, когда ложишься в постель. Теперь же эта музыка только раздражает и гнетет, потому что она вгоняет в дремоту, а спать нельзя; если Варька, не дай бог, уснет, то хозяева прибьют ее. Лампадка мигает. Зеленое пятно и тени приходят в движение, лезут в полуоткрытые, неподвижные глаза Варьки и в ее наполовину уснувшем мозгу складываются в туманные грезы. Она видит темные облака, которые гоняются друг за другом по небу и кричат, как ребенок. Но вот подул ветер, пропали облака, и Варька видит широкое шоссе, покрытое жидкою грязью; по шоссе тянутся обозы, плетутся люди с котомками на спинах, носятся взад и вперед какие?то тени; по обе стороны сквозь холодный, суровый туман видны леса. Вдруг люди с котомками и тени падают на землю в жидкую грязь. «Зачем это?» – спрашивает Варька. «Спать, спать!» – отвечают ей. И они засыпают крепко, спят сладко, а на телеграфных проволоках сидят вороны и сороки, кричат, как ребенок, и стараются разбудить их. – Баю-баюшки-баю, а я песенку спою… – мурлычет Варька и уже видит себя в темной, душной избе. На полу ворочается ее покойный отец Ефим Степанов. Она не видит его, но слышит, как он катается от боли по полу и стонет. У него, как он говорит, «разыгралась грыжа». Боль так сильна, что он не может выговорить ни одного слова и только втягивает в себя воздух и отбивает зубами барабанную дробь: – Бу-бу-бу-бу… Мать Пелагея побежала в усадьбу к господам сказать, что Ефим помирает. Она давно уже ушла, и пора бы ей вернуться. Варька лежит на печи, не спит и прислушивается к отцовскому «бу?бу?бу». Но вот слышно, кто?то подъехал к избе. Это господа прислали молодого доктора, который приехал к ним из города в гости. Доктор входит в избу; его не видно в потемках, но слышно, как он кашляет и щелкает дверью. – Засветите огонь, – говорит он. – Бу-бу-бу… – отвечает Ефим. Пелагея бросается к печке и начинает искать черепок со спичками. Проходит минута в молчании. Доктор, порывшись в карманах, зажигает свою спичку. – Сейчас, батюшка, сейчас, – говорит Пелагея, бросается вон из избы и немного погодя возвращается с огарком. Щеки у Ефима розовые, глаза блестят и взгляд как?то особенно остр, точно Ефим видит насквозь и избу и доктора. – Ну, что? Что ты это вздумал? – говорит доктор, нагибаясь к нему. – Эге! Давно ли это у тебя? – Чего-с? Помирать, ваше благородие, пришло время… Не быть мне в живых… – Полно вздор говорить… Вылечим! – Это как вам угодно, ваше благородие, благодарим покорно, а только мы понимаем… Коли смерть пришла, что уж тут. Доктор с четверть часа возится с Ефимом; потом поднимается и говорит: – Я ничего не могу поделать… Тебе нужно в больницу ехать, там тебе операцию сделают. Сейчас же поезжай… Непременно поезжай! Немножко поздно, в больнице все уже спят, но это ничего, я тебе записочку дам. Слышишь? – Батюшка, да на чем же он поедет? – говорит Пелагея. – У нас нет лошади. – Ничего, я попрошу господ, они дадут лошадь. Доктор уходит, свеча тухнет, и опять слышится «бу-бу-бу»… Спустя полчаса к избе кто-то подъезжает. Это господа прислали тележку, чтобы ехать в больницу. Ефим собирается и едет… Но вот наступает хорошее, ясное утро. Пелагеи нет дома: она пошла в больницу узнать, что делается с Ефимом. Где-то плачет ребенок, и Варька слышит, как кто?то ее голосом поет: – Баюбаюшки-баю, а я песенку спою… Возвращается Пелагея; она крестится и шепчет: – Ночью вправили ему, а к утру богу душу отдал… Царство небесное, вечный покой… Сказывают, поздно захватили… Надо бы раньше… Варька идет в лес и плачет там, но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что она стукается лбом о березу. Она поднимает глаза и видит перед собой хозяина-сапожника. – Ты что же это, паршивая? – говорит он. – Дитё плачет, а ты спишь? Он больно треплет ее за ухо, а она встряхивает головой, качает колыбель и мурлычет свою песню. Зеленое пятно и тени от панталон и пеленок колеблются, мигают ей и скоро опять овладевают ее мозгом. Опять она видит шоссе, покрытое жидкою грязью. Люди с котомками на спинах и тени разлеглись и крепко спят. Глядя на них, Варьке страстно хочется спать; она легла бы с наслаждением, но мать Пелагея идет рядом и торопит ее. Обе они спешат в город наниматься. – Подайте милостынки Христа ради! – просит мать у встречных. – Явите божескую милость, господа милосердные! – Подай сюда ребенка! – отвечает ей чей-то знакомый голос. – Подай сюда ребенка! – повторяет тот же голос, но уже сердито и резко. – Спишь, подлая? Варька вскакивает и, оглядевшись, понимает, в чем дело: нет ни шоссе, ни Пелагеи, ни встречных, а стоит посреди комнатки одна только хозяйка, которая пришла покормить своего ребенка. Пока толстая, плечистая хозяйка кормит и унимает ребенка, Варька стоит, глядит на нее и ждет, когда она кончит. А за окнами уже синеет воздух, тени и зеленое пятно на потолке заметно бледнеют. Скоро утро. – Возьми! – говорит хозяйка, застегивая на груди сорочку. – Плачет. Должно, сглазили. Варька берет ребенка, кладет его в колыбель и опять начинает качать. Зеленое пятно и тени мало-помалу исчезают, и уж некому лезть в ее голову и туманить мозг. А спать хочется по?прежнему, ужасно хочется! Варька кладет голову на край колыбели и качается всем туловищем, чтобы пересилить сон, но глаза все-таки слипаются, и голова тяжела. – Варька, затопи печку! – раздается за дверью голос хозяина. Значит, уже пора вставать и приниматься за работу. Варька оставляет колыбель и бежит в сарай за дровами. Она рада. Когда бегаешь и ходишь, спать уже не так хочется, как в сидячем положении. Она приносит дрова, топит печь и чувствует, как расправляется ее одеревеневшее лицо и как проясняются мысли. – Варька, поставь самовар! – кричит хозяйка. Варька колет лучину, но едва успевает зажечь их и сунуть в самовар, как слышится новый приказ: – Варька, почисть хозяину калоши! Она садится на пол, чистит калоши и думает, что хорошо бы сунуть голову в большую, глубокую калошу и подремать в ней немножко… И вдруг калоша растет, пухнет, наполняет собою всю комнату, Варька роняет щетку, но тотчас же встряхивает головой, пучит глаза и старается глядеть так, чтобы предметы не росли и не двигались в ее глазах. – Варька, помой снаружи лестницу, а то от заказчиков совестно! Варька моет лестницу, убирает комнаты, потом топит другую печь и бежит в лавочку. Работы много, нет ни одной минуты свободной. Но ничто так не тяжело, как стоять на одном месте перед кухонным столом и чистить картошку. Голову тянет к столу, картошка рябит в глазах, нож валится из рук, а возле ходит толстая, сердитая хозяйка с засученными рукавами и говорит так громко, что звенит в ушах. Мучительно также прислуживать за обедом, стирать, шить. Бывают минуты, когда хочется, ни на что не глядя, повалиться на пол и спать. День проходит. Глядя, как темнеют окна, Варька сжимает себе деревенеющие виски и улыбается, сама не зная чего ради. Вечерняя мгла ласкает ее слипающиеся глаза и обещает ей скорый, крепкий сон. Вечером к хозяевам приходят гости. – Варька, ставь самовар! – кричит хозяйка. Самовар у хозяев маленький, и, прежде чем гости напиваются чаю, приходится подогревать его раз пять. После чаю Варька стоит целый час на одном месте, глядит на гостей и ждет приказаний. – Варька, сбегай купи три бутылки пива! Она срывается с места и старается бежать быстрее, чтобы прогнать сон. – Варька, сбегай за водкой! Варька, где штопор? Варька, почисть селедку! Но вот наконец гости ушли; огни тушатся, хозяева ложатся спать. – Варька, покачай ребенка! – раздается последний приказ. В печке кричит сверчок; зеленое пятно на потолке и тени от панталон и пеленок опять лезут в полуоткрытые глаза Варьки, мигают и туманят ей голову. – Баю-баюшки-баю, – мурлычет она, – а я песенку спою… А ребенок кричит и изнемогает от крика. Варька видит опять грязное шоссе, людей с котомками, Пелагею, отца Ефима. Она все понимает, всех узнает, но сквозь полусон она не может только никак понять той силы, которая сковывает ее по рукам и по ногам, давит ее и мешает ей жить. Она оглядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться от нее, но не находит. Наконец, измучившись, она напрягает все свои силы и зрение, глядит вверх на мигающее зеленое пятно и, прислушавшись к крику, находит врага, мешающего ей жить. Этот враг – ребенок. Она смеется. Ей удивительно: как это раньше она не могла понять такого пустяка? Зеленое пятно, тени и сверчок тоже, кажется, смеются и удивляются. Ложное представление овладевает Варькой. Она встает с табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребенка, сковывающего ее по рукам и ногам… Убить ребенка, а потом спать, спать, спать… Смеясь, подмигивая и грозя зеленому пятну пальцами, Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая… -------------------- "Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы"
Поблагодарили:
|
|
|
|
 31.01.2009, 14:59 31.01.2009, 14:59
Сообщение
#12
|
|
 Профессор        Группа: Banned Сообщений: 3226 Регистрация: 3.4.2008 Из: СПб Пользователь №: 7086 Поблагодарили: 2602 раз(а) |
Сергей Анатольевич Махотин
Бабушка Плисецкого Лидия Яковлевна собрала листки с контрольным диктантом. Зазвенел звонок. Все задвигали стульями и зашумели. - Ребята, минутку, - сказала Лидия Яковлевна. - Кто знает, что с Геной Плисецким? Почему он в школу не ходит? Никто не знал. - Болеет, наверно, - предположил Орлов, кусая яблоко. - Везёт же людям! Лидия Яковлевна покачала головой. - Везения тут никакого. У него единственная отметка в журнале, и та тройка. Боюсь, он не успеет её исправить. - А где он живёт? - спросил Юрка. - Вот молодец, Юра! - обрадовалась Лидия Яковлевна и открыла журнал. - Навести его, пожалуйста. Ага, вот, нашла. Железнодорожная улица, пять, квартира пятнадцать. Запомнил? Или записать тебе? - Не надо, я запомнил. Железнодорожная улица была совсем в другой стороне от нашего дома. С неба валил снег вперемежку с дождём. Проносившиеся машины выплёскивали на тротуар грязную жижу. Прохожие шарахались и чертыхались, ругая водителей, петербургскую зиму и всё на свете. У меня потёк левый сапог, а по носу вдруг щёлкнула такая огромная капля, что я вздрогнул. Наконец мы пришли. Дом оказался старинный. В некоторых местах штукатурка отвалилась и были видны красные кирпичи. На стене, между высокими окнами первого и второго этажа, висела мемориальная доска: "Здесь жил и работал профессор Александр Петрович Голованов". Мы прошли под аркой и очутились в маленьком дворике-колодце. Ветра тут не было, и даже шум с улицы не долетал. Из мусорного бака вылезла тощая серая кошка и испуганно уставилась на нас. - Вот она, пятнадцатая квартира, - прочёл Юрка табличку на дверях парадной. - На третьем этаже. Я дёрнул за ручку, но дверь не открылась. - Гляди, сигнализация, - сказал Юрка, показывая на два ряда кнопок с номерами. - Это чтоб воры не забрались. Он нажал на пятнадцатую кнопку. Прошло минут пять. Никто не отвечал. - Дома никого нет, - предположил я и даже обрадовался. Со спокойной совестью можно идти домой. Внезапно в микрофоне раздался треск и скрипучий металлический голос недовольно спросил: - Кто? - Это... - растерялся Юрка. - Это мы. - Кто? - вновь раздался недовольный голос. Тут Юрка догадался нажать вторую кнопку с надписью "говорите" и закричал в микрофон: - Мы к Гене Плисецкому! Гена здесь живёт? - Нету таких, - ответил микрофон и затих. Мы переглянулись. Я хотел сказать, что, видимо, Лидия Яковлевна дала нам не тот адрес, но не успел. За дверью послышались чьи-то тяжёлые шаги. Дверь распахнулась, и прямо на меня прыгнул огромный чёрный дог. Я выронил портфель и плюхнулся в снег. А противная псина уже мчалась со всех ног к мусорному баку. Всё произошло так внезапно, что я даже испугаться не успел. Вслед за догом из парадной вышел важный мужчина в шубе и резиновых сапогах. Строго покосившись на меня, он скомандовал: - Цезарь, фу! Фу, Цезарь! Но Цезарь, как я понял, не очень-то послушался, потому что его хозяин быстро зашагал в сторону помойки. - Вставай скорей, - позвал Юрка. - Я дверь держу, чтоб не захлопнулась. - Он же здесь не живёт, - сказал я, поднимаясь и отряхиваясь. - Ну его, этого Плисецкого, пойдём домой. - А вдруг живёт. Проверим, раз дверь открыта. Не нравится мне эта сигнализация, какая-то она подозрительная. "Дался ему этот Плисецкий, - ворчал я про себя, тащась вслед за Юркой на третий этаж. - Друг он ему, что ли!.." Плисецкий учился с нами всего месяца два. Перешёл из какой-то другой школы. Из какой, никто не знал. Да никто и не спрашивал. Я почему-то был уверен, что о себе он никогда не станет рассказывать. Учился он средне. После уроков сразу уходил домой. Не пытался ни с кем подружиться. В конце концов даже девчонки перестали обращать на него внимание и оставили в покое. Мы и не заметили, что он в школу не ходит. Кроме разве что Сони Козодоевой, сидевшей с ним за одной партой. Но та влюбилась в девятиклассника Качаряна, и всё остальное ей было до лампочки. Юрка подошёл к массивной двери и позвонил. Потом ещё раз. И ещё. Никакого толку. Открывать нам явно не хотели. - Что за дела, не понимаю, - обиженно пробормотал Юрка. - Кто-то же отвечал нам из этой квартиры. Я пожал плечами и сделал шаг к лестнице. Юрка в последний раз нажал на кнопку и тоже повернулся, чтобы уйти. В этот момент клацнул замок, дверь приоткрылась. Мы подбежали к двери. Из-за цепочки на нас смотрела какая-то старуха. - Здравствуйте, - сказал я. - Мы к Гене пришли. Этот адрес нам учительница дала. Старуха недоверчиво взглянула сначала на меня, потом на Юрку. И захлопнула дверь. Юрка ахнул: - Ну дела! Ни тебе ответа, ни привета, ни тебе здравствуй, ни тебе до свиданья! Но дверь снова открылась, на этот раз широко, и старуха произнесла: - Войдите. Она повела нас длинным тёмным коридором на кухню, тоже оказавшуюся длинной и тёмной. Кроме газовой плиты тут стоял лишь кухонный стол с пепельницей и одна-единственная табуретка. Мы встали у стенки, а старуха села на табуретку, закинула ногу на ногу, чиркнула спичкой и закурила папиросу. Вообще-то она выглядела не такой уж старухой. Если бы меня спросили, сколько ей лет, я бы не ответил. Была она укутана до пояса пуховым платком. Зато очень даже прилично сидели на ней фирменные джинсы, на ногах сияли новенькие кроссовки, стоившие диких денег в коммерческом магазине. - Я вас слушаю, молодые люди, - сказала она, щурясь от табачного дыма. - Нам бы с Геной поговорить... - неуверенно начал Юрка. - Мы его одноклассники, - добавил я. Старуха затушила папиросу. - А настоящий момент это невозможно. Мой внук час назад приземлился в Бостоне. Он звонил с аэродрома, полёт прошёл нормально. - Она помолчала и промолвила задумчиво: - Там тепло, плюс двадцать. - Как в Бостоне? - не понял я. - Это же Америка! Старуха не ответила и закурила новую папиросу. - Так вы его бабушка? - спросил Юрка. - А когда он вернётся? Ему тройку нужно исправить. Она опять не ответила. Папироса в её пальцах погасла, подрагивая на весу. - Погоди ты со своей тройкой, - шепнул я, дёрнув Юрку за рукав. До меня стало наконец доходить, что случилось. Юрка тоже начал кое-что понимать. Он вытаращил глаза и воскликнул: - Как же он один-то улетел? Просто взял и улетел? Так же не бывает! Бабушка Плисецкого печально взглянула на Юрку. - С родителями. Страна эта осточертела им. Нет, мол, у неё будущего. А раз так, значит, и у Гешки его нет, пока он здесь. Юрка просто не находил слов. - Ну дела! - только и смог он пробормотать, покраснев и набычившись. Бабушка Плисецкого вздохнула. - А вы что же с ним не улетели? - спросил я. - Господь с тобой! - махнула она рукой, и пепел с потухшей папиросы упал на пол. - Куда уж старой за молодыми гоняться. Надо здесь умереть, недолго осталось. Юрка открыл было рот, чтобы возразить, но из прихожей послышался звук отпираемой двери, какая-то возня и сопенье, и вдруг в кухню вбежал Цезарь. На этот раз он не стал на меня бросаться, а просто обнюхал. И на том спасибо! Пёс шагнул к Юрке, прижал его к стене и улёгся у его ног, разинув мокрую пасть и вывалив язык. - Ида Марковна! - раздался из коридора раздражённый бас. - Я же просил не курить в кухне. Всю квартиру провоняли своим беломором! Цезарь вскочил и убежал на голос хозяина. - Кто это? - шёпотом спросил Юрка. - А ну его! - поморщилась бабушка Плисецкого. - Сосед. Плохой человек. Хочет Гешкины кроссовки у меня купить. Я их и не снимаю теперь, украдёт. Комнату собирается себе отсудить. А по мне - так и пусть отсуживает. На что мне теперь две комнаты, одной-то. - Вы совсем одна остались? - спросил я. - Почему одна? Родни много. Все на Пискаревке лежат. Куда я от них уеду? Она вдруг встала и прихрамывая пошла из кухни. Я выглянул в окно. Снег кончился, но небо не прояснилось, было по-прежнему свинцово-серым. Начинало смеркаться. На ветке растопыренного тополя сидела тощая кошка, поглядывая вниз и крутя головой. Цезарь, видать, здорово её напугал. И от этой кошки, от этого слякотного неба, от папиросных окурков, мрачной кухни и всей этой неуютной чужой квартиры мне сделалось так тоскливо, что захотелось заплакать. - Пойдём, что ли, - сказал Юрка. - Чего тут понапрасну торчать? Бабушка Плисецкого ждала нас у дверей, держа в руках стопку учебников. - Собрала вот вам. Вы, наверно, за книгами приходили? Я сложил учебники в портфель. Нужно будет сдать их завтра в библиотеку. - До свиданья, - сказал Юрка. Старуха не ответила. Может быть, не расслышала. Дверь за нами закрылась на цепочку. Дома, сев за уроки, я вытащил из портфеля учебники Плисецкого. Из математики выпал сложенный вчетверо лист плотной бумаги. Я развернул его и увидел, что это портрет девочки, нарисованный простым карандашом. Даже не портрет, а набросок. Кого-то он мне сильно напоминал. Ну конечно же! Соньку Козодоеву - вот кого! Только на рисунке она была немножко другая. Лучше как-то, без обычных своих надменных гримас и поджатых губ. Она смотрела на меня красивыми печальными глазами, как будто я - это не я, а девятиклассник Качарян. Надо же! Гена Плисецкий отлично рисовал. Просто здорово рисовал! А мы и не знали. Совсем ничего не знали о нём. И вот он уехал, и никто в классе не будет об этом жалеть. Словно и не учился он с нами никогда. Он, наверно, поступит в американскую школу и будет рисовать американских ребят. А те начнут расспрашивать про Россию, про нас. Представляю, что он им расскажет. А собственно, чего уж такого ужасного он может рассказать? Мы же ничего плохого ему не делали... За чаем папа, взглянув на меня, спросил: - Ты что, пару схватил? - Нет. А что? - Вид у тебя виноватый. Я пожал плечами и принялся усердно размешивать сахар. - Чашку разобьёшь, - сделала мне мама замечание. И в этот момент чашка щёлкнула, словно перегоревшая лампочка. На боку появилась косая трещина, из которой начал сочиться горячий чай. - Ну вот, что я говорила! - воскликнула мама, хватаясь за тряпку. - Что за ослиное упрямство! Тринадцатый год мужику, а ума, как у младенца! О чём ты думаешь, интересно знать? - Он думает о том, что разбитая посуда - к счастью, - промолвил папа, ставя блюдце с треснувшей чашкой в раковину. Мама неодобрительно взглянула на него, но промолчала, продолжая вытирать чайную лужу на столе. - Я думаю о профессоре Голованове, - вдруг сказал я. - Кто это? - спросил папа. - Не знаю. Просто профессор. Александр Петрович. Жил на Железнодорожной улице. - Профессор? - папа наморщил лоб. - Есть художник Голованов. Тоже Александр Петрович. Между прочим, мой хороший приятель. - У тебя все приятели хорошие, - проворчала мама. Папа кивнул: - Конечно, а как же иначе? Неужели ты бы хотела, чтобы у меня были все плохие приятели? Я почувствовал, что они вот-вот поссорятся, и громко объявил: - А один наш одноклассник в Америку улетел! - Ну? - удивилась мама. - Это кто же? - Плисецкий. Гена. - Это у кого мать в овощном работает? - А ты её разве знала?! - Видела на родительском собрании. Недавно я ещё макароны у неё покупала. - Макароны? В овощном? - недоверчиво проговорил папа. - Представь себе. Ты-то по магазинам не ходишь, не знаешь, что где продают в наше время. А у нас картошка вся вышла. - Ну и логика у тебя! - засмеялся папа. - Куплю я завтра картошку. Схожу на рынок и куплю. Не в булочную же за ней идти. - Как я устала от вас, - сказала мама. - Тоже бросила бы всё и в Америку улетела. Она пошла в комнату и включила телевизор, крикнув: - Посуду сами мойте! Папа взглянул на меня: - Кинем жребий? Я покачал головой и принялся мыть посуду. Её и было-то совсем немного. На следующий день все только о Плисецком и говорили. Не переменах девчонки плотным кольцом окружали Козодоеву. Сонька с равнодушным видом рассказывала, что об отъезде Гены она знала давно, но по его просьбе держала это втайне. Орлов клянчил у неё адрес Плисецкого, а Сонька отвечала нараспев: - Ну, я не знаю... Имею ли я право сообщать его адрес? Юрка презрительно хмыкал и отходил в сторону. Я поманил его за собой в конец коридора. - Смотри, что у меня есть. Юрка уставился на карандашный портрет. - Ты, что ли, нарисовал? Похоже... - Это Плисецкий рисовал, - сказал я. - Я бы так не смог. - Талантливый, оказывается, был человек, - сказал Юрка. - Почему был? Он и сейчас талантливый. - Ну-ка, дай, - Юрка взял у меня портрет и принялся его рассматривать. Он вертел его и так и сяк, потом сложил лист вчетверо и недовольно пожал плечами. - Чего он нашёл в этой воображале? - Не знаю, - ответил я. - Выходит, что-то нашёл. Может, отдадим ей портрет? - Кому, Соньке? - ужаснулся Юрка. - Да её так от гордости раздует, что она лопнет! И откуда ты знаешь, может, Плисецкий вообще не собирался его никому дарить. Юрка был прав. Значит, оставалось одно: вернуть рисунок бабушке Плисецкого. Я вспомнил тёмную кухню, злого соседа, необузданного Цезаря, и у меня сразу испортилось настроение. Юрка, похоже, чувствовал то же самое. - Ничего, - ободрил он и меня и себя. - Просто отдадим и уйдём. Слегка морозило. Не было уже вчерашней слякоти. В воздухе вился лёгкий снежок, и сквозь его белую пелену дома выглядели помолодевшими и нарядными. Будто радовались близкому Новому году. Дверь в подъезде была распахнута. Рядом стоял мебельный грузовик, из которого три грузчика вытаскивали длинный жёлтый диван. Пахло опилками и бензином. Мы взбежали на третий этаж. Я позвонил, и Цезарь за дверью три раза раскатисто рявкнул в ответ. Цепочка на этот раз не зазвенела, дверь распахнулась почти бесшумно. Бабушка Плисецкого с любопытством смотрела на нас. - Вот, - сказал я, протягивая ей портрет Козодоевой. - Это было в Генином учебнике. Она развернула рисунок, улыбнулась и осторожно его погладила. Вдруг из коридора, чуть не опрокинув бабушку, выскочил Цезарь. Он обнюхал меня, затем кинулся к Юрке, обнял его своими когтистыми лапами и лизнул в лицо. - Вот я тебе! - закричала бабушка Плисецкого, замахиваясь на него полотенцем. - Свалился на мою голову, псина невоспитанная! Цезарь отпустил Юрку и, поджав хвост, убежал в квартиру. Мне сделалось смешно. Зато Юрке было не до смеха. Он вытирал рукавами куртки облизанное лицо, фыркал и морщился. - Зайди умойся, - велела ему бабушка Плисецкого и взглянула на меня. - Ты тоже иди руки мой. У меня чай готов. Чай мы пили не на кухне, а в комнате, за большим круглым столом, покрытым красной бархатной скатертью. Чашка мне досталась такая изящная и хрупкая, что я отказался от сахара, боясь связываться с чайной ложкой. Но Юрка-то, Юрка! Я его просто не узнавал. Он держался непринуждённо, пил чай из блюдца, хрустел сушками и вёл светскую беседу. - Красиво у вас, - говорил он. - Мебель такая старинная, как в Эрмитаже. Картина такая старинная, как... Тоже как в Эрмитаже. Это ваш родственник на ней изображён? - Родственник, родственник, - чуть улыбнувшись, кивнула бабушка Плисецкого и подвинула тарелку с сушками поближе к Юрке. - Гешкин прапрадед. - Хорошая картина, - похвалил Юрка. - И чай у вас вкусный такой, и сушки такие... - Как в Эрмитаже, - закончила за него бабушка Плисецкого. Прерывисто зазвонил телефон. Она быстро встала и вышла в коридор. Я посмотрел на Юрку. - Ты чего это разболтался? - А что такого? - удивился он. - Надо же о чём-то говорить, а то ты всё молчишь и молчишь. Ей-то и поговорить теперь не с кем. Из коридора слышно было, как бабушка Плисецкого расспрашивает: - А у папы какое настроение?.. А как мама?.. Что ты ел сегодня?.. Нет, не болею. Меня тут твои одноклассники навещают. Как зовут? А я и не спросила... - Шевельков и Сорокин! - заорал Юрка. - Шевельков и Сорокин, - повторила бабушка Плисецкого. - Ну, целую, мой родной. Храни вас Бог. Пора было уходить. Пока мы одевались, бабушка Плисецкого смотрела на нас с печальной улыбкой, курила папиросу и молчала. Сейчас она совсем не казалась мне старухой. Не старуха, не бабушка, а просто пожилая женщина, да ещё в джинсах и кроссовках. Цезарь мешал одеваться, прижимал нас к вешалке и тыкался мордой в животы. - Что-то соседа вашего не видать, - сказал я. - А он в больнице, - ответила бабушка Плисецкого, и в его голосе мне послышалась насмешка. - Хотел вчера кошек на помойке отравить, а на него с крыши сосулька упала. - Его насмерть убило? - вытаращил Юрка глаза. - Сотрясение мозга. Через неделю выйдет. За неделю это животное всю мою пенсию съест. Она сказала это спокойно, без всякой обиды на Цезаря и на его аппетит. Пёс взглянул на неё немного виновато: что, мол, тут поделаешь, раз судьба такая. Потом рухнул к её ногам, вывалил язык и жарко задышал. Мы с Юркой спустились уже на второй этаж, когда бабушка Плисецкого окликнула нас: - Эй, Шевельков и Сорокин! - Что? - хором отозвались мы, задрав головы. - Гена сказал, что у вас очень хороший класс. Он по вам скучает. Вот, собственно, и всё. - Спасибо! - ответили мы. Дверь наверху захлопнулась. Во дворе мы увидели вчерашнюю кошку. Она сидела на крышке канализационного люка и щурилась на голубей, которые ходили вокруг неё и клевали разбросанные кем-то хлебные корки. По-прежнему падал лёгкий снежок, но крышка оставалась тёплой и сухой. Кошка чувствовала себя замечательно. Как хорошо, что хозяину Цезаря не удалось её отравить. -------------------- Бог есть!
|
|
|
|
 20.04.2009, 9:39 20.04.2009, 9:39
Сообщение
#13
|
|
|
Ректор         Группа: Мember Сообщений: 6070 Регистрация: 2.6.2006 Пользователь №: 1865 Поблагодарили: 5841 раз(а) |
Русское поле
Сергей Григорьевич вылил на себя последний ковш прохладной воды, обмотался полотенцем и, довольно пыхтя и отдуваясь, вышел во двор. Вечер был чудесен. Весна вовсю катилась в пекло жаркого лета, снег уже совсем исчез и воздух был неповторимо свежим. Небо наполнялось синью, а шедшее к закату солнце, наконец, скрылось за избами, озарив одну из них угасающим нимбом. Дышалось легко и свободно. И лаяли где-то собаки, и пел сверчок, и потрескивали поленья... И жить особенно хотелось. Мнился Сергею Григорьевичу честно заработанный ужин, простой, но по-своему изысканный: грубо очищенная, и оттого гранёная, светло-янтарная, дымящаяся картошка. А ещё – первая зелень, а ещё – селёдка в рассольном озере, а ещё – прозрачная, прохладная... Радостные размышления прервала тёмная фигура у калитки: - С лёгким паром! Он сразу узнал пришедшего, мгновенно исчезло волшебство вечера и сверчок стал навязчив и неуместен. Сергей Григорьевич устало опустился на скамью у бани и вздохнул: - Ну, здравствуй, Семён. Чего припёрся-то? Он знал, зачем пришел незваный гость, но хотел хоть как-то отсрочить неприятный разговор, хоть чуть-чуть. А нелепая фигура как-то обрадованно скрипнула калиткой, протиснулась во двор и, поправив пиджак, предстала перед начальством. Председатель поднял глаза и взглянул на тракториста, ожидая начало старой песни. И она началась тут же: - Не могу я там пахать, Григорьич. Сними меня с поля, будь человеком. Куда хочешь отправь, хоть на Гадюкины болота, а оттуда сними. Я тебя сильно прошу. Говоря давно отрепетированную речь, Семён сильно нервничал, оттого улыбался добрее обычного и вызывал подозрения в адекватности своего состояния. Сергей Григорьевич внимательно посмотрел на собеседника, будто надеясь, что он от такого взгляда растает в воздухе и уплывёт в вечернюю дымку. Но Семён и в этот раз не растворился в вечернем сумраке, а стал ещё отчётливее и реальнее в последних лучах недолгого весеннего дня. Пришла очередь председателя: - Папиросу дай, – хрипло попросил он, опуская глаза. Семён с готовностью протянул начальнику помятую пачку. Чиркнула спичка, взвился к небу удушливый дым. Прокашлявшись, Сергей Григорьевич продолжил на повышенных тонах: - Что ты мне нервы мотаешь, а? Некого мне на это поле ставить, некого! Все заняты, все при деле! А поле осваивать надо, это ж целина! Слышишь: ЦЕ-ЛИ-НА! Ты газеты читаешь вообще, радио слушаешь? Ты в какое время живёшь? Председатель в полотенце закашлялся, сплюнул в крапиву, а Семён с готовностью закивал: читаю, читаю. - Ты ж коммунист, передовик, да что там… - Сергей Григорьевич злился и цветом лица уже заметно контрастировал с седой прядью мокрых волос. – Тебе детей кормить надо, у тебя их двое! - Да я ж только «за», Григорьич, участок бы другой, - не унимался передовик, - ну не могу я там пахать. Нехорошее место там, понимаешь. Председатель посмотрел на собеседника с отработанным годами партийным укором. - Ты ещё бабкины россказни приплети, это ж смешно. Ты что, подлец, считаешь, что на нашей советской земле есть какие-то нехорошие места? Она вся хороша, вся наша! Далее Сергей Григорьевич провёл стандартный и унылый урок политинформации с упоминанием съездов, вождей, экономической обстановки. Закончил, правда, угрозой: - Поставлю вопрос на собрании, если не успокоишься. Ребром поставлю. Семён, чуть не плача, наклонился к сидящему оратору и с дрожью в голосе произнёс: - Так они ж хрустят, Григорьич, родной. Пашешь – хрустят, домой идёшь – хрустят, спишь – хрустят… Кости. Возникла пауза. Теперь оба молча смотрели друг на друга с мольбой. «Отстань, уйди» - молчал председатель. «Не могу» - молчал тракторист. Сергей Григорьевич устало поднялся и спокойно сказал, глядя Семёну в глаза: - Они там с Гражданской. Белогвардейцы. Никто их хоронить не будет. Иди и работай, забудь. И побрёл к дому, к остывшему ужину, к согревшейся уже прозрачной бутыли. Скрипнула в сумерках калитка, звякнул крючок. Со стороны леса повеяло холодом и Семён, поёжившись, пошёл по улице мимо светящихся окошек и чёрных провалов подворотен. *** Утром он сидел возле поля, на поваленном бревне и смотрел на свой трактор, высившийся в тумане бездушной глыбой. Было холодно и сыро. Семён достал папиросу и закурил, не отводя хмурых глаз от железного коня. Из глубины тумана раздался тихий шорох, и через миг на бревно рядом с ним опустилась серая фигура. Сидели молча, Семён опустил глаза и задумчиво изучал карту Беломорканала, будто давно мечтал побывать в тех краях. - Вы попытались ещё раз, Семён? – раздался бесплотный голос. - Ну да. – Ответил он и бросил погасшую папиросу под бревно. - Бесполезно, да? - Бесполезно. Оба вздохнули. - Ну не казните себя, если что, вы сделали всё что могли. И жалеть нас не надо, мы не святые. - Угу. - А что здесь будет? - Подсолнухи. Серая фигура поднялась с бревна, какое-то время молчала, а потом нарочито весело сказала: - Ну что ж, пусть будут подсолнухи! Прощайте, Семён. И Семён остался один. Он подошёл к трактору, придирчиво осмотрел плуг, проверил крепежи, ловкое движение – и он в кабине. Зарычал мотор, лязгнуло железо, и пополз по земле отточенный нож. Семён некоторое время настороженно прислушивался к окружавшему его звуковому хаосу, а потом перестал и успокоился. Закурил. Всходило солнышко, рассеивался туман и неслась над полем одноимённая песня. (с)Альфредо Гарсиа жж белый раббит -------------------- "Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы"
Поблагодарили:
|
|
|
|
 20.06.2009, 11:56 20.06.2009, 11:56
Сообщение
#14
|
|
 Профессор        Группа: Banned Сообщений: 3226 Регистрация: 3.4.2008 Из: СПб Пользователь №: 7086 Поблагодарили: 2602 раз(а) |
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
НЕУДАЧА Илья Сергеич Пеплов и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали. За дверью, в маленькой зале, происходило, по-видимому, объяснение в любви; объяснялись их дочь Наташенька и учитель уездного училища Щупкин. — Клюёт! — шептал Пеплов, дрожа от нетерпения и потирая руки.— Смотри же, Петровна, как только заговорят о чувствах, тотчас же снимай со стены образ и идём благословлять... Накроем... Благословение образом свято и ненарушимо... Не отвертится тогда, пусть хоть в суд подаёт. А за дверью происходил такой разговор: — Оставьте ваш характер! — говорил Щупкин, зажигая спичку о свои клетчатые брюки.— Вовсе я не писал вам писем! — Ну да! Будто я не знаю вашего почерка! — хохотала девица, манерно взвизгивая и то и дело поглядывая на себя в зеркало.— Я сразу узнала! И какие вы странные! Учитель чистописания, а почерк как у курицы! Как же вы учите писать, если сами плохо пишете? — Гм!.. Это ничего не значит-с. В чистописании главное не почерк, главное, чтоб ученики не забывались. Кого линейкой по голове ударишь, кого на колени... Да что почерк! Пустое дело! Некрасов писатель был, а совестно глядеть, как он писал. В собрании сочинений показан его почерк. — То Некрасов, а то вы... (вздох). Я за писателя с удовольствием бы пошла. Он постоянно бы мне стихи на память писал! — Стихи и я могу написать вам, ежели желаете. — О чём же вы писать можете? — О любви... о чувствах... о ваших глазах... Прочтёте — очумеете... Слеза прошибёт! А ежели я напишу вам поэтические стихи, то дадите тогда ручку поцеловать? — Велика важность!.. Да хоть сейчас целуйте! Щупкин вскочил и, выпучив глаза, припал к пухлой, пахнущей яичным мылом, ручке. — Снимай образ! — заторопился Пеплов, толкнув локтём свою жену, бледнея от волнения и застёгиваясь.— Идём! Ну! И, не медля ни секунды, Пеплов распахнул дверь. — Дети...— забормотал он, воздевая руки и слезливо мигая глазами.— Господь вас благословит, дети мои... Живите... плодитесь... размножайтесь... — И... и я благословляю...— проговорила мамаша, плача от счастья.— Будьте счастливы, дорогие! О, вы отнимаете у меня единственное сокровище! — обратилась она к Щупкину.— Любите же мою дочь, жалейте её... Щупкин разинул рот от изумления и испуга. Приступ родителей был так внезапен и смел, что он не мог выговорить ни одного слова. «Попался! Окрутили! — подумал он, млея от ужаса.— Крышка теперь тебе, брат! Не выскочишь!» И он покорно подставил свою голову, как бы желая сказать: «Берите, я побеждён!» — Бла... благословляю...— продолжал папаша и тоже заплакал.— Наташенька, дочь моя... становись рядом... Петровна, давай образ... Но тут родитель вдруг перестал плакать, и лицо у него перекосило от гнева. — Тумба! — сердито сказал он жене.— Голова твоя глупая! Да нешто это образ? — Ах, батюшки-светы! Что случилось? Учитель чистописания несмело поднял глаза и увидел, что он спасён: мамаша впопыхах сняла со стены вместо образа портрет писателя Лажечникова. Старик Пеплов и его супруга Клеопатра Петровна, с портретом в руках, стояли сконфуженные, не зная, что им делать и что говорить. Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал. 1886 -------------------- Бог есть!
Поблагодарили:
|
|
|
|
 12.07.2009, 15:16 12.07.2009, 15:16
Сообщение
#15
|
|
 Магистр     Группа: Мember Сообщений: 437 Регистрация: 6.9.2008 Пользователь №: 7677 Поблагодарили: 746 раз(а) |
Виктория Платова Не самый счастливый год Просто омерзительный год. Чудовищный. Из рук вон. Прошлый год был нисколько не лучше. А уж позапрошлый … Вообще – катастрофа… В позапрошлом году она нашла в себе силы расстаться с Главным Мужчиной Своей Жизни после пяти лет мучений, измен, мелкого вранья и полнейшей неопределенности. Рвать пришлось с мясом, с кровью – и нельзя сказать, что теперь, по прошествии времени, все раны затянулись и все шрамы заросли. Не затянулись. Не заросли. Как бы ей хотелось завести роман! Романчик, романишко. Даже краткосрочная связь спасла бы ее, но – увы – решиться на них она тоже не может до сих пор: хуже нет тревожить не затянувшиеся раны. И потом, все мужчины ей кажутся похожими на ее Главного Мужчину. Все пройдет, уговаривает она сама себя, все пройдет, и наваждение закончиться. Все пройдет, уговаривают ее кольцо с магическим квадратом на внутренней стороне, кольцо с календарем майя на внешней стороне и серебряный браслет с головой дракона вместо застежки. Купленные в разное время, но в одном и том же месте, они торжественно назначались талисманами. Амулетами, призванными помочь ей в жизни, избавиться от груза темного прошлого и показать дорогу к светлому будущему. Ни кольца, ни браслет не выглядят новыми, они приобретены на самом популярном в городе блошином рынке у метро "Удельная". Она ездит туда каждое третье воскресенье месяца (если не идет дождь). Но случаются и вне плановые вылазки в другие воскресенья и субботы (если настроение падает ниже нулевой отметки). Эти вылазки заменяют ей традиционный женский шопинг, а также визиты к психотерапевту, денег на которого и при желании не наскребешь. Собственно, и кольца, и браслет – побочный продукт "Удельной", на самом деле ее интересуют старинные книги. На первое издание алхимического Viridarium Chymicum рассчитывать не приходится, но что-нибудь любопытное всегда можно отыскать. Пусть и не в самом хорошем состоянии, зато потом, начинается захватывающее - реставрация! Реставрирование старинных книг – ее хобби. Вот и теперь, три месяца кряду, она выпасает один-единственный фолиант, с шикарными гравюрами внутри. Фламмарион. "Атмосфера", издание 1916 года. Денег на "Атмосферу" не хватает катастрофически, беспредельщик-хозяин требует за нее пять тысяч рублей. Ну, не то чтобы требует, но стоит на своем и крепко держится именно за эту сумму, не желая сбивать ни рубля. Такого в ее практике еще не случалось, и книжники, как один шли ей на встречу, и торг был уместен всегда. Подвинуть же этого не представляется возможным, хотя и выглядит он вполне интеллигентно. Парень из хорошей (возможно - профессорской) семьи, невесть как затесавшийся в пестрый мир "Удельной". Когда бы она ни приехала на блошиный рынок – он тут как тут. Стоит со своей книгой и уже издали приветственно машет ей рукой. - Что-то давненько вас не было, - говорит он. - Уезжала в отпуск, - отвечает она. - И куда, если не секрет? - В Барселону. Оказывается, он тоже бывал в Барселоне, хотя она нравится ему гораздо меньше, чем, к примеру, Лиссабон, где влажно, ветрено и бегают старые облупленные трамвайчики без дверей. Он с ходу вываливает еще массу вкусных подробностей, в другое время она бы слушала лиссабонский эпос разинув рот, но сейчас, ее интересует только книга. - Так вы мне ее уступите? - Пять тысяч – и она ваша. - А три вас не устроит? – спрашивает она из спортивного интереса, ведь в кармане у нее только полторы тысячи, взятые в долг до зарплаты. - Не устроит, нет. - Ну, тогда пока. - Приходите, когда подкопите. Буду вас ждать. И он действительно ждет: и в третье воскресенье месяца, и в последующую субботу. И они снова долго разговаривают, теперь уже о ее увлечении старыми книгами, о Гауди, а потом – об архитектурных стилях: он без ума от платереско, и он снова не сбавляет не рубля. В какой-то момент (слава кольцам-амулетам и браслету-талисману большой респект!) она перестает думать о книге и начинает думать о ее хозяине. Какой он… не беспредельщик, нет! Какой он забавный, милый. Какой он умница и хороший рассказчик. И еще о том, что он совсем-совсем не похож на Главного Мужчину Ее Жизни. И от этого неожиданного открытия ее позапрошлогодние любовные раны затягивает тончайший резной узор. Платереско, не иначе. Пять тысяч за исцеление – не такая уж дорогая цена… У него карие глаза (она давно заметила это), но они еще и грустные, и красивые (она заметила это только сейчас). Сейчас, когда все позапрошлогодние раны затянулись окончательно и ни одного, даже самого ничтожного шрама не осталось. -------------------- Поблагодарили:
|
|
|
|
 30.07.2009, 11:36 30.07.2009, 11:36
Сообщение
#16
|
|
 Профессор        Группа: Moderator Сообщений: 2708 Регистрация: 26.10.2008 Из: Россия, Самара Пользователь №: 9379 Поблагодарили: 3108 раз(а) |
Рафаэль Альберти. Сценические стихи
МАТАДОР -- Я -- матадор. -- Я -- бык. -- Я пришел убить тебя. -- Попробуй, если можешь. -- Я обработаю тебя с блеском. -- Попробуй, если можешь. -- Ты храбро вел себя до сих пор. -- Ты тоже. Увидим. -- Ты принесешь мне славу сегодня. Начнем. -- Я сказал: увидим. -- Слышишь молчанье цирка? -- Молчанье смерти. -- Ты умрешь под аплодисменты и взмахи шалей. -- А как ты думаешь, матадор, мне это нравится? -- Бык умирает, сражаясь. Становись. -- И матадор. Иногда. -- Что ты сказал? -- Что матадор тоже иногда умирает. -- Молчать! Начнем, бык. Не говори со мной. -- Осужденный на смерть имеет право на последнее слово. -- Публика в нетерпении. -- Расстели плащ. -- Эй, бык, что с тобой? Ты не бросаешься на меня? -- Одно условие: я хочу музыки. Потребуй музыки. -- Она уже играет. Ты не слушаешь? Скорей! Сойди же с места! -- Что это такое? Я этого не знаю. -- Это марш. Мой марш. -- Ты мой матадор. Как тебя зовут? -- Антонио Лукас, Шорник. -- Мой матадор... А меня зовут Беззаботный. -- Знаю. Но начнем же. Сюда, бык! -- Знаешь что? Я думаю об одной вещи. -- Говори скорее! Публика уже протестует. -- Если ты будешь сердиться, я замолчу. Ничего не скажу. -- Публика не хочет ждать. Она кричит, ревет. -- Что публика понимает! Если она будет кричать, я не двинусь с места. -- Ты станешь позором всей корриды. -- А мне все равно! Я зовусь Беззаботный. -- Тебя погонят в стойло, как ручного. Глупая скотина! -- Это я ручной? Я, Беззаботный? Хорошо ты со мной обращаешься! -- Мерзавец! На, получай! Бросайся же на меня! -- Ты ударил меня лапой? Ну, смотри же! -- Трусливый бык! Бык-предатель! -- Вот ты уже летишь до первого ряда. Где твоя мулета? Где твоя шпага? Ты у моих ног, ты весь согнулся, ты на коленях. Ну, матадор, бросайся на меня! Это ты бык. А ну, веселей и по всем правилам искусства, как породистое и храброе животное! Другой марш, президент! Опусти лоб, не тычься в облака! Нацепи мне на сердце все твои блестки, я хочу быть опоясанным лентами так, чтобы бык и матадор казались одним существом. -- Минуту, минуту, Беззаботный! -- Ни минуты больше! Подтянись! Ты умрешь моей собственной смертью. Ты почувствуешь, как твоя шпага войдет в тебя до самой рукоятки. Ты упадешь на песок, и тебя не ударят кинжалом. Быть быком -- это не то, что быть матадором. Вот настоящая работа! Оле, кричит публика. Она врывается на арену. Это безумие! Уши, розовые чулки, гранатовый галстук, блестки одежды -- все мне в награду! Тебя тащат по кругу и срывают с тебя серебряные бубенцы и значки. Твой залитый кровью труп делает красный росчерк по песку. Еще музыки, музыки, музыки! Я убил лучшего из матадоров! -------------------- Поблагодарили:
|
|
|
|
 25.09.2009, 13:17 25.09.2009, 13:17
Сообщение
#17
|
|
 Профессор        Группа: Banned Сообщений: 3226 Регистрация: 3.4.2008 Из: СПб Пользователь №: 7086 Поблагодарили: 2602 раз(а) |
ПЫЛШЫКЫ
Юрий Иосифович Коваль, из книги рассказов "Про них" - Пылшыкы пришли, - сказала Орехьевна. - Кто? - не понял я. - Ты что, оглох, что ли? Пылшыкы. "Что за жуть такая? Что за пылшыкы?" - подумал я и выглянул в окно. По деревне шли два здоровенных мужика в телогрейках, перепоясанных веревками, за которыми торчало по топору. Один нес на плече двуручную пилу. - Эй, матки-хозяйки, - сипло покрикивали они, - кому попилить-поколоть? - Спасибо, батюшки пылшыкы-колшыкы, - отвечали хозяйки, - все попилено-поколено. - Сейчас весна, - говорили другие, - на лето много ли надо дров? Осенью приходите. - Жалко пылшыков, - сказала Орехьевна. - Работы нету. Ладно, пускай у нас пилят. А я им картошки наварю. Будете за картошку пилить, батюшки пылшыкы? - За картошку попилим, за капусту поколем, - торговались пильщики. Полдня возились они и ладно работали, попилили-покололи у Орехьевны все дрова. Сели картошку есть с квашеной капустой. - Я уж вам капусту постным маслом полью, - хвалилась Орехьевна. Долго ели пильщики, а потом полезли на сарай и легли на крыше передохнуть. - Пылшыкы на крыше спят! Пылшыкы на крыше спят! - кричали ребятишки, бегая под сараем. - Эй, пылшыкы! - кричали им прохожие. - Вы чего это на крыше спите? Пильщики не отвечали. Им, видно, с крыши не было слышно. - Пригрелись на солнышке - вот и спят, - отвечала Орехьевна. - Сейчас весна, самое время на крыше спать, на земле-то - сыро. - Да ты бы их в доме положила. - Вот еще! Может, им и перину вспучить?! Отдохнули пильщики и пошли в другую деревню пилить-колоть, а я полез на крышу, на их место. Хорошо, тепло было на крыше. Пахло старыми сухими досками и почему-то медом. "Да, - думал я, задремывая, - не дураки были пильщики. Наелись картошки - и на крышу!" -------------------- Бог есть!
Поблагодарили:
|
|
|
|
 20.09.2010, 20:30 20.09.2010, 20:30
Сообщение
#18
|
|
 Профессор        Группа: Banned Сообщений: 3226 Регистрация: 3.4.2008 Из: СПб Пользователь №: 7086 Поблагодарили: 2602 раз(а) |
Папаша
Антон Павлович Чехов Тонкая, как голландская сельдь, мамаша вошла в кабинет к толстому и круглому, как жук, папаше и кашлянула. При входе ее с колен папаши спорхнула горничная и шмыгнула за портьеру; мамаша не обратила на это ни малейшего внимания, потому что успела уже привыкнуть к маленьким слабостям папаши и смотрела на них с точки зрения умной жены, понимающей своего цивилизованного мужа. - Пампушка,- сказала она, садясь на папашины колени,- я пришла к тебе, мой родной, посоветоваться. Утри свои губы, я хочу поцеловать тебя. Папаша замигал глазами и вытер рукавом губы. - Что тебе? - спросил он. - Вот что, папочка... Что нам делать с нашим сыном? - А что такое? - А ты не знаешь? Боже мой! Как вы все, отцы, беспечны! Это ужасно! Пампушка, да будь же хоть отцом наконец если не хочешь... не можешь быть мужем! - Опять свое! Слышал тысячу раз уж! Папаша сделал нетерпеливое движение, и мамаша чуть было не упала с колен папаши. - Все вы, мужчины, таковы, не любите слушать правды. - Ты про правду пришла рассказывать или про сына? - Ну, ну, не буду... Пампуша, сын наш опять нехорошие отметки из гимназии принес. - Ну, так что ж? - Как что ж? Ведь его не допустят к экзамену! Он не перейдет в четвертый класс! - Пускай не переходит. Невелика беда. Лишь бы учился да дома не баловался. - Ведь ему, папочка, пятнадцать лет! Можно ли в таких летах быть в третьем классе? Представь, этот негодный арифметик опять ему вывел двойку... Ну, на что это похоже? - Выпороть нужно, вот на что похоже. Мамаша мизинчиком провела по жирным губам папаши, и ей показалось, что она кокетливо нахмурила бровки. - Нет, пампушка, о наказаниях мне не говори... Сын наш не виноват... Тут интрига... Сын наш, нечего скромничать, так развит, что невероятно, чтобы он не знал какой-нибудь глупой арифметики. Он всё прекрасно знает, в этом я уверена! - Шарлатан он, вот что-с! Ежели б поменьше баловался да побольше учился... Сядь-ка, мать моя, на стул... Не думаю, чтоб тебе удобно было сидеть на моих коленях. Мамаша спорхнула с колен папаши, и ей показалось, что она лебединым шагом направилась к креслу. - Боже, какое бесчувствие! - прошептала она, усевшись и закрыв глаза.- Нет, ты не любишь сына! Наш сын так хорош, так умен, так красив... Интрига, интрига! Нет, он не должен оставаться на второй год, я этого не допущу! - Допустишь, коли негодяй скверно учится... Эх, вы, матери!.. Ну, иди с богом, а я тут кое-чем должен... позаняться... Папаша повернулся к столу, нагнулся к какой-то бумажке и искоса, как собака на тарелку, посмотрел на портьеру. - Папочка, я не уйду... я не уйду! Я вижу, что я тебе в тягость, но потерпи... Папочка, ты должен сходить к учителю арифметики и приказать ему поставить нашему сыну хорошую отметку... Ты ему должен сказать, что сын наш хорошо знает арифметику, что он слаб здоровьем, а потому и не может угождать всякому. Ты принудь учителя. Можно ли мужчине сидеть в третьем классе? Постарайся, пампуша! Представь, Софья Николаевна нашла, что сын наш похож на Париса! - Для меня это очень лестно, но не пойду! Некогда мне шляться. - Нет, пойдешь, папочка! - Не пойду... Слово твердо... Ну, уходи с богом, душенька... Мне бы заняться нужно вот тут кое-чем... - Пойдешь! Мамаша поднялась и возвысила голос. - Не пойду! - Пойдешь!! - крикнула мамаша, - а если не пойдешь, если не захочешь пожалеть своего единственного сына, то... Мамаша взвизгнула и жестом взбешенного трагика указала на портьеру... Папаша сконфузился, растерялся, ни к селу ни к городу запел какую-то песню и сбросил с себя сюртук... Он всегда терялся и становился совершенным идиотом, когда мамаша указывала ему на его портьеру. Он сдался. Позвали сына и потребовали от него слова. Сынок рассердился, нахмурился, насупился и сказал, что он арифметику знает лучше самого учителя и что он не виноват в том, что на этом свете пятерки получаются одними только гимназистками, богачами да подлипалами. Он разрыдался и сообщил адрес учителя арифметики во всех подробностях. Папаша побрился, поводил у себя по лысине гребнем, оделся поприличнее и отправился «пожалеть единственного сына». По обыкновению большинства папашей, он вошел к учителю арифметики без доклада. Каких только вещей не увидишь и не услышишь, вошедши без доклада! Он слышал, как учитель сказал своей жене: «Дорого ты стоишь мне, Ариадна!.. Прихоти твои не имеют пределов!» И видел, как учительша бросилась на шею к учителю и сказала: «Прости меня! Ты мне дешево стоишь, но я тебя дорого ценю!» Папаша нашел, что учительша очень хороша собой и что будь она совершенно одета, она не была бы так прелестна. - Здравствуйте! - сказал он, развязно подходя к супругам и шаркая ножкой. Учитель на минуту растерялся, а учительша вспыхнула и с быстротою молнии шмыгнула в соседнюю комнату. - Извините,- начал папаша с улыбочкой,- я, может быть, того... вас в некотором роде обеспокоил... Очень хорошо понимаю... Здоровы-с? Честь имею рекомендоваться... Не из безызвестных, как видите... Тоже служака... Ха-ха-ха! Да вы не беспокойтесь! Г-н учитель чуточку, приличия ради, улыбнулся и вежливо указал на стул. Папаша повернулся на одной ножке и сел. - Я,- продолжал он, показывая г. учителю свои золотые часы,- пришел с вами поговорить-с... Мм-да... Вы, конечно, меня извините... Я по-ученому выражаться не мастер. Наш брат, знаете ли, всё спроста... Ха-ха-ха! Вы в университете обучались? - Да, в университете. - Так-ссс!.. Н-ну, да... А сегодня тепло-с... Вы, Иван Федорыч, моему сынишке двоек там наставили... Мм... да... Но это ничего, знаете... Кто чего достоин... Ему же дань - дань, ему же урок - урок... Хе-хе-хе!.. Но, знаете ли, неприятно. Неужели мой сын плохо арифметику понимает? - Как вам сказать? Не то, чтобы плохо, но, знаете ли, не занимается. Да, он плохо знает. - Почему же он плохо знает? Учитель сделал большие глаза. - Как почему? - сказал он.- Потому, что плохо знает и не занимается. - Помилуйте, Иван Федорыч! Сын мой превосходно занимается! Я сам с ним занимаюсь... Он ночи сидит... Он всё отлично знает... Ну, а что пошаливает... Ну, да ведь это молодость... Кто из нас не был молод? Я вас не обеспокоил? - Помилуйте, что вы?.. Очень вам благодарен даже... Вы, отцы, такие редкие гости у нас, педагогов... Впрочем, это показывает на то, как вы сильно нам доверяете; а главное во всем - это доверие. - Разумеется... Главное - не вмешиваемся... Значит, сын мой не перейдет в IV класс? - Да. У него ведь не по одной только арифметике годовая двойка? - Можно будет и к другим съездить. Ну, а насчет арифметики?.. Хххе!.. Исправите? - Не могу-с! (Учитель улыбнулся.) Не могу-с!.. Я желал, чтобы сын ваш перешел, я старался всеми силами, но ваш сын не занимается, говорит дерзости... Мне несколько раз приходилось иметь с ним неприятности. - М-молод... Что поделаешь?! Да вы уж переправьте на троечку! - Не могу! - Да ну, пустяки!.. Что вы мне рассказываете? Как будто бы я не знаю, что можно, чего нельзя. Можно, Иван Федорыч! - Не могу! Что скажут другие двоечники? Несправедливо, как ни поверните дело. Ей-ей, не могу! Папаша мигнул одним глазом. - Можете, Иван Федорыч! Иван Федорыч! Не будем долго рассказывать! Но таково дело, чтобы о нем три часа балясы точить... Вы скажите мне, что вы по-своему, по-ученому, считаете справедливым? Ведь мы знаем, что такое ваша справедливость. Хе-хе-хе! Говорили бы прямо, Иван Федорыч, без экивок! Вы ведь с намерением поставили двойку... Где же тут справедливость? Учитель сделал большие глаза и... только; а почему он не обиделся - это останется для меня навсегда тайною учительского сердца. - С намерением,- продолжал папаша.- Вы гостя ожидали-с. Ха-хе-ха-хе!.. Что ж? Извольте-с!.. Я согласен... Ему же дань - дань... Понимаю службу, как видите... Как ни прогрессируйте там, а... все-таки, знаете... ммда... старые обычаи лучше всего, полезнее... Чем богат, тем и рад. Папаша с сопеньем вытащил из кармана бумажник, и двадцатипятирублевка потянулась к кулаку учителя. - Извольте-с! Учитель покраснел, съежился и... только. Почему он не указал папаше на дверь - для меня останется навсегда тайной учительского сердца... - Вы,- продолжал папаша,- не конфузьтесь... Ведь я понимаю... Кто говорит, что не берет,- тот берет... Кто теперь не берет? Нельзя, батенька, не брать... Не привыкли еще, значит? Пожалуйте-с! - Нет, ради бога... - Мало? Ну, больше дать не могу... Не возьмете? - Помилуйте!.. - Как прикажете... Ну, а уж двоечку исправьте!.. Не так я прошу, как мать... Плачет, знаете ли... Сердцебиение там и прочее... - Вполне сочувствую вашей супруге, но не могу. - Если сын не перейдет в IV класс, то... что же будет?.. Ммда... Нет, уж вы переведите его! - Рад бы, но не могу... Прикажете папиросу? - Гранд мерси... Перевести бы не мешало... А в каком чине состоите? - Титулярный... Впрочем, по должности VIII-го класса. Кгм!.. - Так-ссс... Ну, да мы с вами поладим... Единым почерком пера, а? идет? Хе-хе!.. - Не могу-с, хоть убейте, не могу! Папаша немного помолчал, подумал и опять наступил на г. учителя. Наступление продолжалось еще очень долго. Учителю пришлось раз двадцать повторить свое неизменное «не могу-с». Наконец папаша надоел учителю и стал больше невыносим. Он начал лезть целоваться, просил проэкзаменовать его по арифметике, рассказал несколько сальных анекдотов и зафамильярничал. Учителя затошнило. - Ваня, тебе пора ехать! - крикнула из другой комнаты учительша. Папаша понял, в чем дело, и своею широкою фигуркой загородил г. учителю дверь. Учитель выбился из сил и начал ныть. Наконец ему показалось, что он придумал гениальнейшую вещь. - Вот что,- сказал он папаше.- Я тогда только исправлю вашему сыну годовую отметку, когда и другие мои товарищи поставят ему по тройке по своим предметам. - Честное слово? - Да, я исправлю, если они исправят. - Дело! Руку вашу! Вы не человек, а- шик! Я им скажу, что вы уже исправили. Идет девка за парубка! Бутылка шампанского за мной. Ну, а когда их можно застать у себя? - Хоть сейчас. - Ну, а мы, разумеется, будем знакомы? Заедете когда-нибудь на часок попросту? - С удовольствием. Будьте здоровы! - Оревуар! 1 Хе-хе-хе-хмы!.. Ох, молодой человек, молодой человек!.. Прощайте!.. Вашим господам товарищам, разумеется, от вас поклон? Передам. Вашей супруге от меня почтительное резюме... Заходите же! Папаша шаркнул ножкой, надел шляпу и улетучился. «Славный малый,- подумал г. учитель, глядя вслед уходившему папаше.- Славный малый! Что у него на душе, то и на языке. Прост и добр, как видно... Люблю таких людей». В тот же день вечером у папаши на коленях опять сидела мамаша (а уж после нее сидела горничная). Папаша уверял ее, что «сын наш» перейдет и что ученых людей не так уломаешь деньгами, как приятным обхождением и вежливеньким наступлением на горло. Примечания: 1 До свидания! (франц. au revoir). 1880 г. -------------------- Бог есть!
|
|
|
|
 26.04.2014, 17:42 26.04.2014, 17:42
Сообщение
#19
|
|
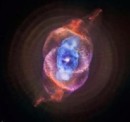 Ректор         Группа: Admin Сообщений: 11202 Регистрация: 30.8.2005 Пользователь №: 197 Поблагодарили: 9027 раз(а) |
(IMG:http://files.adme.ru/files/news/part_67/676355/preview-650x390-650-1398425028.jpg)
Будущее книги Итак, обычная московская квартира, 2018 год. — Пап, можно я с твоей карточки сниму 99 баксов? За книжку надо заплатить. — А, что за книжка? — Ну, этот. Достоевский. «Преступление и наказание». — Так зачем покупать. У нас же есть. — Да? А в каком файле? — Причём тут файлы. Вот же он, на полке стоит... — Фу-ууу. Это же бумажная книжка! — Ну, и что? Я ж в твои годы её читал. — В твои годы, в твои годы... Там поиска нет. Как я, по-твоему, цитаты находить буду? Аудио-сопровождения тут нет. Анимационных картинок тоже нет. Только текст, в котором даже шрифт и тот поменять нельзя... Ты что? Меня же в школе всё засмеют! Сам такую читай. — Ну, ладно. Вот, возьми DVD. Лет пятнадцать назад купил. — Чего? DVD? А чем я этот антиквариат, по-твоему, прочитаю? В политехнический музей его сдай. Ты мне ещё перфоленту с Достоевским предложи! — Если ты такой умный, то поищи сам в сети, да скачай нахаляву. — Бесплатно скачать книжку!? — Ну, да. А как же ещё? На книги Достоевского за давностью лет авторские права не распространяются... Наверняка, где-то она лежит. — Ты, что пап! Это может у вас, в начале века, всё скачать нахаляву можно было. Ты что не слышал, что уже лет пять, как авторские права на все книги навечно переданы Американской Ассоциации Издателей Книг. Или ты хочешь, чтоб меня как члена секты Дмитрия Склярова в тюрьму пожизненно засадили? — Так, Достоевский же не американец! Причём тут американские издатели. — А кого это волнует? Ты, папа, случаем не антиглобалист? — Нет, что ты! Ну, сынок, жалко же почти 100 долларов тратить за файл. Ну, одноклассников лучше попроси файл этот дать. У них-то точно же есть. А ты им потом свой какой-нибудь файл дашь. — Ага! Если они мне своего Достоевского дадут, то где я его читать буду? — В смысле, «где»? Они свою копию у себя дома, а ты свою тут. — Ну, ты совсем отстал. Книжку можно читать лишь с того компа, с которого её купили. Да и код поляризации там другой будет... Короче, пап, давай деньги! Я куплю себе нормальную книжку. — Ну, ладно. Вот, тебе одноразовый пароль на снятие 99 баксов с нашего счета. В наше время 100 долларов были большими деньгами. — Ок. Скачал. Thanks. — Ну-ка, дай и мне посмотреть... Слушай, сынок, а что это за картинки? Такого вроде бы в романе не было... — Дык, это же баннеры. Без баннеров книжка стоит 699 баксов. Открытый файл пестрел мигающими объявлениями: «Axe Proffessional, 2018 — современные топоры с лазерной заточкой»; «Косметический салон ’У Лизаньки’ - мы не дадим вам превратиться в старуху»; «Мучают проблемы? Психологическая служба доверия ’Порфирий’»; «Кредитуем, обналичиваем. Низкий процент»; «RASKOLNIKOFF.COM — вызов шаловливых старушек в любую точку земного шара»... — Слушай, сынок, а что это текста романа не видно? Подождать что-ли надо пока баннеры исчезнут? — Ну, ты как будто с Луны свалился! Сто лет ждать будешь. Текст же надо через поляризационные очки читать. Без очков только реклама видна! — А это ещё зачем? — Как зачем? Чтобы никто, кроме заплатившего, не мог книжку читать! Прикинь, если бы я купил книгу, а кто-то, ничего не покупая, у меня через плечо тоже мог бы её читать... — Глупость какая-то. Ну, а если б я тоже очки одел бы? — Ха, ну ты даёшь! Файл же настроен только на мои очки. На других очках другой код поляризации. — Ладно, а ну дай-ка свои очки. Я через них книжку посмотрю. — Как посмотришь? Они же тебя по сетчатке не опознают. Ты в них ничего кроме сообщения, что ты надел чужие очки не увидишь! Ладно, пап, не мешай со своими глупостями! Мне надо пока лицензия не кончилась быстро всё прочесть, а иначе надо будет либо аренду файла продлевать, либо книжка сама уничтожится. Не мешай, я читаю... 3 часа спустя. — Уффф! Ну, всё. Я прочитал! — Как всё прочитал? «Преступление и наказание» за три часа?! — Ну, да. Я и быстрее всё прочел бы, если б рекламных пауз каждые полчаса не было бы. — Всё равное не верю! Кто такой, например, Свидригайлов? — Кто-кто? — Аааа, всё понятно. Кто такой Лужин? Кто такая Соня Мармеладова? — Ну, ты даёшь! Откуда же я знаю! Я ж Home Edition читал. У меня только про то, как Раскольников старуху топором убил, а потом сдался с повинной. Про всяких остальных надо Professional версию покупать или вообще Enterprise Edition. У нас же денег столько нет. — Мда-а, с ума сойти, куда катится мир! — Скатился уже. Лет пятнадцать назад надо было думать, если не ещё раньше... © Стас Козловский _adme.ru -------------------- "Искусство математика состоит в нахождении того частного случая, который содержит все зародыши общности" © Гильберт
Путь по звездам вновь означен, И вновь гудит набат. В алтарях святые плачут, И воин сходит в ад, Сущий ад, Но ни шагу назад! © Ария Поблагодарили:
СЛАУ, |
|
|
|
  |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.03.2026, 5:26 |